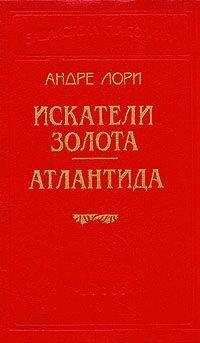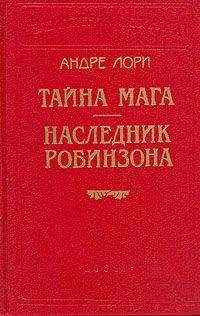Тогда Клерсина взяла его за руку, подвела к одной из двух больших кроватей и отдернула полог. Я подошел сзади их и увидел прелестного маленького мальчика лет восьми или девяти, не более, который спал, красиво раскинувшись на белоснежных подушках.
Ребенок этот представлял собою образец самого красивого, самого изящного типа белой расы. Его длинные вьющиеся волосы рассыпались по подушке шелковистыми золотистыми прядями. Тонкие черты личика были теперь уже вполне определившиеся и свидетельствовали о твердой воле и природной энергии. Прекрасного рисунка губы придавали детскому ротику даже и во время сна выражение благородной гордости. Цвет лица, хотя и слегка загорелого, тем не менее напоминал цвет лепестка нежной, бледной розы.
— Это его сын!… Флоримон! — сказала Клерсина, но так как отец мой все продолжал ожидать чего-то, то она нагнулась к нему и шепнула таинственным голосом:
— И он сам здесь!…
— И он?! — воскликнул мой отец, видимо, пораженный и даже как бы встревоженный этой вестью.
— Да, да, он сам! — с торжествующим видом подтвердила Клерсина. — Но говоря, что он здесь, я не хочу сказать этим, что он у меня в доме: он здесь недалеко… в надежном месте, где ничто не может угрожать ему. Он желает вас видеть и поручить вам своих детей. Потому-то он и призвал вас к себе… Бедный масса!… Он очень, очень болен!
— Болен! Он? — переспросил отец, как бы отказываясь верить в возможность этого сообщения.
— Да, очень болен! Он скоро умрет! — продолжала Клерсина.
Тогда я увидел нечто такое, чего не видал еще никогда в своей жизни: увидел, как слезы брызнули из глаз моего отца и потекли по его лицу. Однако он почти тотчас же справился со своим горем, которое, несомненно, должно было быть сильно и глубоко, и сказал негритянке:
— Что же я должен сделать? Какого рода распоряжения оставлены им мне?
Как пробужденная из забытья этими прямо обращенными к ней вопросами, Клерсина взяла в руки свою маленькую медную лампочку, или светильник, и направилась в тот угол комнаты, где стояли шкаф и комод, но вместо того, чтобы открыть дверцу шкафа или ящик комода, как я ожидал, она поднялась на цыпочки и достала с высоко прибитой полки мешок с маисом, который поставила на землю, затем с сияющей улыбкой по адресу моего отца развязала мешок и опустила в него руку по самое плечо. Пошарив там на самом дне довольно продолжительное время, она достала из этого своеобразного бюро тщательно сложенную бумажку без подписи, которую и вручила отцу.
Вот что говорилось в этой записке:
«Ж. отправится завтра утром в монастырь урсулинок, представиться от моего имени настоятельнице монастыря, под своим настоящим именем, и попросит отпустить с ним мою дочь, которая воспитывается там под именем Дюпюи. Захватив обоих моих детей, Розетту и Флоримона, которые находятся у Клерсины, он явится ко мне туда, куда ему укажет эта прекрасная, уважаемая женщина, которой он вполне может довериться. Я желаю перед смертью обнять и поцеловать своих детей и верного друга! Прошу сжечь эту записку».
Отец мой несколько раз подряд читал и перечитывал эту записку, как если бы он хотел навсегда запечатлеть в своей памяти каждое отдельное слово, затем подошел к огню, зажег бумажку и печально смотрел, как огонь пожирал ее.
Потом он обратился к Клерсине.
— Завтра утром, к десяти часам, я буду здесь с молодой девушкой. Будьте готовы!
— О, я уже целую неделю готова, — отвечала негритянка, видимо, гордясь своей исправностью. — Все уже приготовлено давно. Привозите только мою Розетту, а за мной дело не станет. Мне придется только позаботиться о том, чтобы приготовить еще одну лошадь для массы Нарцисса, которого мы не ожидали и на которого не рассчитывали, — добавила она улыбаясь по моему адресу. — Но сумеете ли вы найти завтра мой дом или, быть может, вы желаете, чтобы я пошла ожидать вас к воротам монастыря и сама проводила вас сюда?
— Нет, это будет не нужно. Зачем напрасно беспокоить вас, мы и сами найдем дорогу. Но вот что я желал бы знать, — сказал отец, — нет ли какой возможности добраться сюда по более тихим и менее людным улицам, ну, словом, более приличным, чтобы провести по ним молодую барышню?
— Нет, масса, — ответила негритянка, — другой дороги нет, иначе и я не повела бы вас этой дорогой. Эти bayou перерезали всю местность, так что волей-неволей приходится идти здесь, или же нужно сделать, по крайней мере, мили две обходу, затем доставать лодку в том месте, где дальнейшая часть пути уже пойдет водой. Впрочем, днем весь Черный город точно вымирает: все на работе, а старики и ребятишки спят.
— Ну, прекрасно! В таком случае, мы придем через Черный город. Итак, до завтра!…
Клерсина снова схватила руку моего отца и, поднеся ее к своим губам, стала покрывать поцелуями.
— Да благословит вас Господь! Да благословит вас Господь! — восклицала она, видимо, растроганная и взволнованная. — Мой бедный масса!… Он теперь умрет спокойно… Он будет знать, что его дети в верных, хороших руках… Молодой масса, я вижу, тоже добрый… Я увидела это по его глазам, когда он смотрел на маленького Флоримона. Он будет братом для него и для моей маленькой Розетты, моей дорогой дочки. Да, она всегда звала меня «мама Клерсина!» — с гордостью пояснила негритянка. — Здесь старых негритянок принято называть «тетушка», но моя Розетта называла меня «мама», да и теперь еще называет так!… Ах, масса, любите ее! — добавила она с внезапным, страстным порывом, между тем как две крупные слезы заблестели в ее больших, выразительных глазах.
Не говоря ни слова, отец мой дружески пожал руку этой славной женщине, которая теперь со словоохотливой поспешностью принялась рассказывать нам о тех приготовлениях к предстоящему путешествию, о которых она уже успела позаботиться.
При этом она не преминула воспользоваться случаем расхвалить на все лады, со свойственным ей природным красноречием, все высокие качества и достоинства ее маленькой Розетты. Слушая ее рассказы и вспоминая милое личико спящего ребенка, я рисовал в своем воображении весьма привлекательный образ молодой девушки, и во мне разыгралось желание поскорее убедиться собственными глазами, что этот образ, созданный моим воображением, соответствует самой действительности. Не забудьте, что мне тогда было всего восемнадцать лет, а в эти годы воображение любого юноши пылко и не ленится работать при малейшем поводе или толчке.
Перед уходом отец захотел еще раз взглянуть на мальчика и поцеловал его в лобик. Я также последовал его примеру, движимый внезапным чувством нежности и симпатии к этому ребенку.