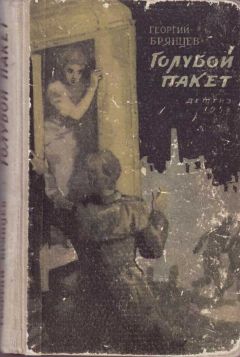— Юлия Владимировна меня воспитывала, — сказал парень. — Чтоб я понял.
— Что понял? — спросил Сол, и налил себе рюмку водки.
— Я пока еще не понял, что, — ответил парень.
— Давайте, будете третьим, — сказал Акс.
— Нет, — ответил парень, — как-нибудь потом. Я хочу на ней жениться.
— Потом уже придется не как-нибудь, а как следует, — сказала Демократия, чтобы разрядить обстановку.
— Ну как хочешь, — сказал Сол, — а мы пока пройдем еще по кругу. Кстати, как тебя зовут?
— Костя.
— Константин, стало быть, — подытожил Акс.
— Константин Биржевой.
— Очень приятно.
— Нам тоже.
Да всем хорошо. При Демократии.
Ми считал себя не только организатором попоек, поваром, но еще и режиссером. Тоже режиссером. Еще один режиссер. Имеется в виду режиссер кино. Так и сказал ему невысокий кучерявый парень. Они вдвоем курили около котла с ухой. Ми сварил его на утро из остатков судачков. Разговор начался с замечания кучерявого об ошибке Ми в приготовлении судачков а натюрель.
— Во-первых, не а ля натюрель, как вы изволили объявить, а просто а. А натюрель.
— А ты-то откуда знаешь, как правильно? — недовольно осведомился Ми.
— Вы списали этот рецепт у Михаила. А он перекладывал раковыми шейками не судачков а натюрель, а осетрину первой свежести.
— У меня просто не было осетрины. Где я здесь возьму осетрину? Да и сколько бы ее понадобилось!
— Говорят, вы выдаете себя за всемирно известного режиссера Михалковского. Правда ли это?
— Правда. Точнее, не совсем. Это я и есть.
— Да? Тогда почему вы не снимаете?
— У меня есть сценарий уже. И скоро, скоро я буду снимать еще один… ну, если не великий, то очень талантливый фильм. Называется:
В ОКОПАХ ГОРОДА ЭСТЭ
— Но ведь вы не режиссер.
— Я не режиссер?! А кто же тогда, по-вашему, режиссер?
— Ну, я не знаю, кто. Сейчас не думал об этом. Только вы не режиссер.
— А кто тогда я, по-вашему?
— Не знаю, только вы не режиссер.
— Может быть, я повар, по-вашему?
— Нет. Да какой вы повар!
— На — слово на б — попробуй какой? — И Ми окунул голову кудрявого парнишки в уху. Хорошо, что она успела остыть. А то бы все, сварился.
— Я сейчас захлебнусь, — говорит парень. Он что-то хочет еще сказать, но Ми опять окунает его в бак.
Наконец, пареньку удается выговорить:
— Вы большой… вы очень…
— Накушался? Ну ладно, хватит с тебя. Что ты там хотел сказать? Большой…
Парень отфыркался, вытерся салфеткой и вдруг неожиданно ударил Ми в живот. Потом распрямил его, опять ударил, распрямил и потянул голову режиссера к его ухе.
— Подожди, подожди, — торопливо говорит Ми. — Давай в шахматы сыграем. Кто проиграет, из того суп сварим.
— А, давай! — парень отпускает Ми и хлопает его ладонью по плечу.
Ми очень любил играть в шахматы на деньги. Никто же не знал, что он был мастером спота по шахматам.
Первую парию Ми проигрывает. Просит парня отыграться.
— Как тебя звать? — спрашивает Ми.
— А разве я не говорил?
— Ну, говорил, не говорил, какая разница. Повторить, что ли, нельзя?
— Гарри.
— Гарри Поттер, что ли?! Вы не похожи…
— Вы уже это спрашивали. Других Гарри не бывает, по-вашему?
Ми проиграл еще партию. А играли они из пяти.
— Если проиграете еще партию, вам придется лезть в уху. Кстати, надо бы ее подогреть.
— Подогреем, подогреем. А как твоя фамилия? Ты не говорил.
— Каспаров.
— Каспаров? Не слышал. Гарри Кас… как?
— Гарри Каспаров.
— Гарри Каспаров? Не слышал. Хичкок — слышал, Стивен Спилберг — слышал, итальянец там этот… забыл как фамилия — тоже слышал. Каспаров — не слышал. Что-то никак не могу выиграть. Ну, ладно, давай еще. Думаю, больше ты не выиграешь.
Но Ми проиграл и эту партию. Пришлось искупаться в ухе. После третьего купанья Ми спросил:
— А ты это… не однофамилец чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова?
— Нет.
— Может быть, родственник?
— Скорее всего. Это я сам.
— Неужели?! А я ведь думал, что вы режиссер. Если бы я знал, что вы шахматист, я бы вас не топил в супе. Ведь мнение непрофессионала для меня ничего не значит. Так, тьфу и растереть.
— То есть я смело могу называть вас поваром?
— Пожалуйста.
— И не режиссером?
— Конечно. Ведь все равно вы в этом деле ничего не понимаете.
— Вы считаете, что я ничего не понимаю в режиссуре?
— Абсолютно.
— Я могу назвать вам ошибку Бортко в Мастере и Маргарите.
— Да? Извольте. Мне казалось, что там нет ошибок.
— Именно в этом и состоит ошибка. А конкретно, у Никанора Ивановича Босого в борще слишком маленькая кость. Это раз. Должно быть огненное озеро с мозговой костью. Много ошибок в Грибоедове. Нет вальдшнепов и дупелей по сезону, шипящего в горле нарзана, вежливой услуги. А где яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках? А филейчики из дроздов с трюфелями?
Нет, вообще ни атмосферы Грибоедова, ни вечерней Клязьмы. Там же соловьи, наверно, поют!
Нет официантов. Они же несли над головами запотевшие кружки с пивом, хрипло и с ненавистью кричали:
— Виноват, гражданин!
И где-то в РУПОРЕ голос командовал:
— Карский раз! Зубрик два! Фляки господарские!!!
Где всё это?!!!
Тонкий голос уже не пел, а завывал:
— Аллилуйя!
Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню. Словом, ад.
И было в полночь видение в аду.
— Видимо, Бор посчитал эти подробности не существенными, — сказал Ми.
— Да, именно так, — ответил Гарри. — Только этого не может быть. Все дело в подробностях. Подробности показывают степень увеличения. Только при очень большом увеличении мог быть виден Воланд, Коровьев, Кот, Азазелло, Гелла. Если не существенна глубина молчания, когда:
— Видно было, как у одного из официантов пиво течет из покосившейся набок кружки на пол, — то и нельзя увидеть Воланда.
А уж тем более нельзя связать настоящее с Иешуа Га Ноцри, с падением Ершалаима.
В ложе театра Варьете не было дальней родственницы Аркадия Апполоновича Семьплеярова, которая била этого председателя акустической комиссии московских театров лиловым зонтиком по голове.
Как говорится, чего ни хватишься, ничего у вас нет.
Бал не распечатан. Кажется, что он такой и есть у Булгакова. Это все равно, что не рассказывать, как работает двигатель внутреннего сгорания. Не показывать работы двигателя изнутри. Ведь в то время, когда жил Булгаков этого увидеть было нельзя. Но если сегодня можно, то должно быть показано то, что не видно невооруженным глазом. И только тогда удастся изобразить то время, то прошлое, когда показать работу двигателя изнутри было невозможно.