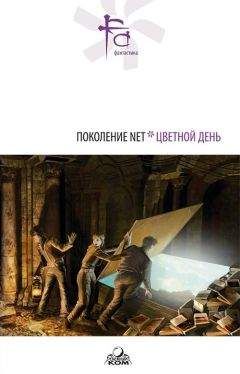Одно движение — и камера подлетает к Марии почти вплотную. Испуганные глаза, встревоженное лицо — на весь экран…
— А теперь скажи, Конни, в чем дело? Ты разлюбил голубоглазых блондинок? Скандинавские красавицы больше не привлекают? Правильно, я всегда говорил: таким, как ты, брюнетки подходят больше.
— Тебе все смеяться. Ее папаша оставил ей ренту в пятнадцать миллионов годового дохода. Пятнадцать миллионов в год, Ник! И она все их профукает, ей только дай. Этот ваш Иерусалим — самое скромное из ее желаний.
— Пятнадцать в год, говоришь? — Ник задумчиво постукивает ручкой по краю стола. — О'кей, нет проблем. Пять единовременно на счет института, как благотворительный взнос в память о жене, и…
Умно, думает Конрад. Благотворительный взнос… да, это то, что надо. Не подкопаешься. Умно — и безопасно: институт сильней него заинтересован в сохранении тайны.
— Идет.
— Они идут, франки идут!!
Мимо бежали люди; охваченная паникой толпа подхватила Марию, закружила, понесла с собой. И тут страх ушел: включились правила выживания, накрепко вбитые в Марию еще в школе, отработанные много раз, доведенные до рефлекса. Толпа — это смерть, из толпы надо выбираться. Локти в стороны, жестко: не дать себя сдавить. К краю продвигаться осторожно, плавно, мягко, но настойчиво. Угадать, когда рвануть вбок, чтобы не к стене притиснули, размазав по ней кровавым пятном, а вышвырнули на простор переулка. И — как можно дальше от толпы. Найти безлюдное место и затаиться. Азбука безопасности при массовых беспорядках.
А вот теперь — связаться с институтом.
— Заберите меня отсюда! Скорее!!!
Скучающий голос агента — куда подевалась вся обходительность? — звучит строчками будущего некролога:
— Уважаемая Мария, пункт третий «а» параграфа пятнадцатого подписанного вами договора о сотрудничестве гласит, цитирую: «Испытатель идет на эксперимент сознательно и добровольно, будучи ознакомлен с риском и принимая на себя всю ответственность». Я сожалею.
Ник поднимает камеру выше: дать панораму. Совсем рядом с укрытием Марии, на той улице, которую она так ловко покинула, убивают бегущих сарацин воины Христовы. Рубят головы на скаку, срывают с женщин драгоценные украшения — и мчатся дальше. Сегодня их день, день их торжества.
— Жаль все же, что она не добралась до Соломонова храма. Если верить хронистам, крестоносцы учинили там такую резню, что кровь доходила до колен всадников и уздечек их коней. До сих пор нам не удалось проверить, насколько это соответствует истине.
Один из рыцарей сворачивает в переулок: как видно, углядел скорчившуюся между стеной и чахлой смоковницей девичью фигурку.
Мария поспешно достает из-за ворота крестик, напоказ: не трогайте, мол, своя!
— Умно, — морщится Конрад.
— Глупо, — возражает Ник. И поясняет: — Золото.
И верно: только миг заминки, одно, почти незаметное мгновение колебания — и драгоценный символ веры скрывается в кулаке победителя, а в грудь Марии входит кончик длинного рыцарского меча. Наблюдатели слышат короткий всхлип — и связь прерывается. Тонкая рука стаскивает с головы шелковое покрывало, прижимает к груди — в последнем, наверное, усилии выжить. Светлые волосы смешиваются с наметенным из пустыни песком, дождь украшений падает в пыль. Рыцарь спрыгивает с коня, наклоняется…
— Какой типаж! — в голосе Ника — откровенное восхищение. — Киношники с руками оторвут. Хочешь в долю, Конни? Подключай свои связи, и половина — твоя.
Муха вьется у лица рыцаря. Крупный план — яростный оскал, брызги крови на полуседой бороде. Отмахивается. Камера легка в управлении, надежна и безотказна. Но на попадание под широкую рыцарскую ладонь — не рассчитана.
— Случайность, — усмехается Ник. — Вот и все. Теперь твою женушку смогла бы вытащить разве что спасательная экспедиция — но, сам понимаешь, положение о секретности изысканий…
— Понимаю, — Конрад трясущимися руками открывает кейс, достает бутыль коллекционной русской водки. — Выпьем?
Ошарашенный легким успехом Конни ушел, и Ник вернулся к пульту наблюдения. Связь не работает на прием в руках аборигенов, но передача идет исправно. Самое интересное как раз и начинается, когда от дураков-туристов камеры переходят к местным.
В храме Гроба Господня шла служба, и в глазах полуседого рыцаря блестели слезы. Завоевал свой Град Христов, усмехнулся Ник. Счастлив, старый волк. Все вы там счастливы. Не видели, что осталось от вашего Святого Города. Руины. Груды камней в оспинах от пуль и осколков. Слишком многие дрались за обладание этим городом. Слишком многие и слишком долго, так долго, что никому уже не интересно, кто там хозяйничает сегодня, а кто придет завтра. «Бойся ухода Иисуса», — вспомнилось вдруг. «Бойся ухода Иисуса, ибо он не вернется». Откуда это? Попалось, видно, на глаза ненароком, да и засело.
Пить меньше надо, одернул себя Ник. Даже с такими выгодными клиентами, как Конни.
Рабочий день подходил к концу. Самым интересным записям придет время позже, но все же Ник не удержался, глянул на камеру.
Служба окончена. Старый рыцарь говорит со священником, и голос его глух:
— Ее глаза как небо. Совсем как у моей Марии. Поздно я разглядел, жаль. Вот… во искупление грехов раба Божьего Конрада… я пожертвую и больше, только бы…
— Молись, сын мой, — строго отвечает священник. — Господь благ, молись. И я буду молиться.
Золотой крестик падает в ладонь священника, порванная цепочка стекает с пальцев рыцаря — водой, песком… временем.
Перед глазами наметенный ветром из пустыни песок промокал темной кровью. Мария провезла по пыли рукой, дотянулась до стены — самыми кончиками пальцев. Камни Вечного Города — как топленое молоко или слегка тронутая загаром кожа. Они будут такими же и через тысячу лет.
Но и они умрут. Все мы смертны — и люди, и города. Может, так и лучше, подумала Мария. Здесь… и теперь. Остаться в Вечном Городе… пока он еще жив… и будет жить еще долго… будет жить…
Сильные руки перевернули ее на спину, пыль и камень сменились полуседой бородой, загорелым лицом. Ее убийца… почему он так странно смотрит?
— Ты не сарацинка. Твои глаза, как небо, и волосы… Вот, — рыцарь вытянул из-за ворота ладанку, — частица мощей святого апостола Матфия. Если ты христианка, целуй, и пусть Господь сотворит чудо.
Серебро ладанки холодит губы. Рыцарь зажимает чем-то рану, берет ее на руки, куда-то несет. Сознание уплывает, и на алом небе пляшут черные буквы, складываясь в сотню раз читанное:
…имеет их плод три вкуса: один на кожице — и он горяч, другой под кожицей — и он общеприятен, третий в самой сердцевине — и он холоден.