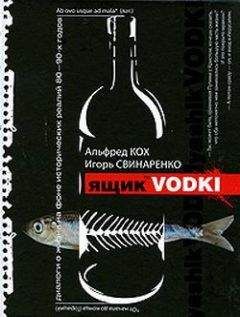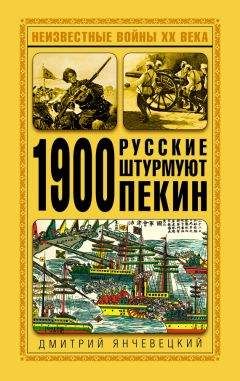— Станичный голова сторожевой службы пленных доставил, — осторожно пояснил главный воевода, знавший окольничего Афанасия Курбановича Щенятина, как одного из самых подлейших интриганов при царском дворе и потому не желавшего хоть чем-нибудь его разозлить.
— Как звать-величать голову? — сменив гнев на милость, спросил Щенятин.
— Акинфий Сусалов, ваша милость, — представился станичный голова, низко кланяясь строгому начальнику.
— Хорош! Ты-то, голова, мне и нужен. Я послан сюда самим государем нашим Иваном Васильевичем для выяснения дел порубежных. Как там польские паны на той стороне не слишком колобродят? Сейчас ведь ранняя весна и если его величество польский король Стефан Баторий сызнова пожелает нам каверзы чинить, то ныне для этого самое подходящее время.
— А вот мы пленных-то и поспрошаем, — сказал главный воевода. — Станичный голова вовремя «языков» привез…
— Пленных в застенок пока, а с головой мне отдельно перемолвиться потребно, — распорядился Щенятин. — Давай-ка, голова, отойдем в сторонку…
— Как скажите, ваша милость, — перебросившись беспокойным взглядом с главным воеводой, ответил Акинфий, следуя за повернувшимся к нему спиной царским посланником.
Отойдя от ворот крепости, где и происходила встреча действующих лиц этой сцены, шагов на сто и присев на объемистое бревно, предназначенное для укрепления на крепостной стене лафета большой пушки, Щенятин строго глянул снизу вверх стоявшего навытяжку перед ним Сусалова.
— Говори без утайки, кого в измене подозреваешь? Мне надо знать имена всех, невзирая на должности и чины.
— О таковых не ведаю, — струхнув не в меру, пролепетал станичный голова, не боявшийся ни бога ни черта, но терявшийся перед большими чинами, как тот же школяр перед строгим ментором.
— А если поразмыслить? — настаивал Щенятин. — Ведь и среди твоих станичников, наверняка, найдутся людишки, которым не стоит верить. Лучше избавиться от них сейчас, прежде чем они переметнутся к врагу. Не верю я тем, кто всех вокруг себя только верными считает, не видя измены. Про князя Курбского слыхал? Он главным воеводой в пограничном городке-крепости Дерпте или Юрьеве, если по нашему, значился. К нему сам великий государь наш благоволения имел, а что вышло? Сбежал княже! Продался ливонцам, аки тать последний… Так вот, голова, смотри в оба! Если кого-то заподозришь, сразу сообщи мне. Я тут буду три дня. Сейчас тебя не задерживаю, зная твою занятость там… — царский посланник небрежно махнул рукой в сторону леса. — Но чтобы на третий день прибыл сюда с отчетом о всех злоумышленниках. Или ты сам, голова, попадешь в опалу. Это я тебе, как Бог свят, обещаю!
Акинфий, сообразив, что ему не удастся поговорить со своим непосредственным начальником Шеиным, откланялся и давай Бог ноги! Из крепостных ворот он выметнулся, как ошпаренный, нахлестывая коня плеткой изо всех сил. За ним поспешали сопровождавшие станичники. При этом Сусалов, как заведенный твердил себе под нос: «Ждала сова галку, а выждала палку» и «Ни праведнику венца, ни грешнику конца». А про себя думал о том, что сделать, чтобы больше не попадаться на глаза «дикому начальнику», как окрестил посланца царя станичный голова, переживший жуткие времена Малюты Скуратова и его «кромешников». И вот что он надумал: через три дня «дикий начальник» отъедет из Сокола, куда подальше, глядишь, и не придется станичному голове заниматься доносами на своих боевых побратимов…
* * *
Вечерние часы перед обычным обходом караулов на крепостных сооружениях главный воевода Сокола Шеин, сидя в своих не слишком шикарных апартаментах, состоявших из гостевой, там же и обеденной залы, рабочего кабинета и спальни, размышлял о том, как держать себя с вновь прибывшим посланником самого Грозного. Был тот известен ему своей неугомонностью в делах личного обогащения, хотя и без того имел от царских щедрот немало. В кормление ему отданы были помимо родовых поместий на Курской земле, еще и земли «украинные», в том числе и здесь, на Брянщине. Видно, хорошо службу нес Щенятин, если даже в гиблые времена опричнины ничего не потерял, а только преумножил. Что же тут удивляться? Наш пострел везде поспел… Успел дворянский сын вовремя записаться в опричники, а когда те впали в немилость царскую, сам же первым покаялся принародно на Красной площади и самолично принялся рубить головы своим бывшим сотоварищам налево и направо. Такие, как он, нигде и никогда не пропадут. Умеют устраиваться. Вот чего воевода Шеин о себе сказать не мог.
Все дело в том, что Шеины вели свою родословную от самого Мишки Прушанина, прибывшего в господин Великий Новгород из Пруссии аж в тринадцатом столетии. А он, как говорилось в преданиях, особым чинопочитанием не отличался, вольнолюбив был не в меру и резал правду-матку всем и каждому. А на Руси такие долго не заживаются…
О том, где и при каких обстоятельствах сгинул Прушанин, об этом родовые грамотки умалчивали. Известно было только то, что после него осталось несколько сыновей, но в историю попал только Василька Морозов, по прозвищу Шея, который числился уже «в седьмом колене» от Прушанина. Этот самый Шея и положил начало московской дворянской фамилии. И было у него, как в сказках сказывается, три сына — Юрий, Василий да Иван. Все трое состояли на службе у молодого тогда Ивана Грозного. Потом Шеиных, как и многих тогда дворянчиков взяла в оборот опричнина. Кто не успел встать под штандарты недоброй памяти Малюты Скуратова, тот опоздал, попав в опалу. Досталось и Шеиным, потерявшим в годы опричнины родовые поместья, чины и звания. Может, из-за всего этого и сам Борис — сын среднего брата Василия Шеина — не поднялся в чинах выше окольничего, совсем чуть-чуть не дотянув до желаемого чина «боярина».
Будучи честным служакой, Борис Шеин старался плохо не думать о царствующем Иоанне, но это не значит, что он мог объяснить самому себе все его поступки. Взять, к примеру, ту же опричнину, о которой теперь царь-государь и слышать не желал. А ведь был незабвенный 1571 год (здесь и далее по новому стилю), когда к Москве подошло войско крымского хана Девлет-Гирея. И что? Опричники, способные только убивать да грабить беззащитных людей, не смогли противостоять татарской орде. Царь Иван тогда потихоньку убрался из стольного града, предоставив драться за Москву, своим слугам верным. А Девлет-Гирей на приступ не пошел, просто поджог посад, отчего огонь спалил не только весь город, но даже перекинулся через кремлевские стены на сам детинец. Москва сгорела быстро, а сам Девлет-Гирей объявил своим «фирманом», что сжег город в отместку за Казань, взятую до того войсками Грозного.