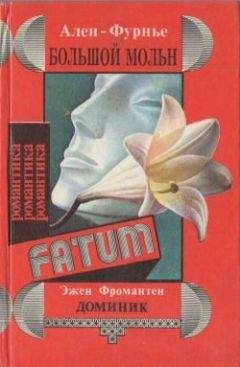— Взгляни-ка! Я ждала тебя, чтобы показать…
Но, заметив незнакомку, усевшуюся в большое кресло посреди комнаты, она в смущении остановилась, не докончив фразы. Быстрым движением она сняла шляпу и в продолжение всего последующего разговора прижимала ее к груди правой рукой, как большое гнездо.
Женщина в капоре, зажав коленями зонтик и кожаную сумочку, стала объяснять цель своего визита и при этом слегка покачивала головой и прищелкивала языком. Она уж снова держалась с апломбом, а начав говорить о своем сыне, сразу приняла горделивый и таинственный вид, нас обоих очень заинтриговавший.
Они приехали в почтовой карете из Ла-Ферте-д'Анжийон, что в четырнадцати километрах от Сент-Агата. Вдова — и, как она дала нам понять, весьма богатая — она потеряла младшего из двух своих сыновей, Антуана, который внезапно умер, вернувшись однажды вечером из школы, — умер от того, что искупался вместе с братом в зараженном пруду. Она решила поместить старшего, Огюстена, к нам, на пансион, чтобы он прошел здесь курс старших классов.
И она сейчас же принялась расточать похвалы этому новому ученику, которого к нам привезла. Ее словно подменили; я просто не узнавал седую женщину, ту, что минутой раньше стояла, сгорбившись, перед дверьми и всем своим умоляющим и растерянным видом напоминала курицу, потерявшую дикого птенца, которого она вывела вместе с собственными цыплятами.
Она с восторгом рассказывала о своем сыне удивительные вещи. По ее словам, он любил делать ей приятное и мог прошагать босиком по берегу реки целые километры — только для того, чтобы разыскать для нее среди зарослей терновника яйца водяных курочек или диких уток… Он ставил и верши… И один раз ночью нашел в лесу фазана, попавшего в силки…
А я-то, однажды порвав нечаянно куртку, едва решился вернуться домой… Я с удивлением взглянул на Милли.
Но моя мама больше не слушала, она даже сделала даме знак, чтобы та замолчала; осторожно положив на стол свое «гнездо», мама тихонько поднялась, словно желая застигнуть кого-то врасплох…
Действительно, над нами, в чулане, где были свалены почерневшие остатки фейерверка от прошлогоднего праздника Четырнадцатого июля, ходил взад и вперед кто-то чужой, сотрясая потолок уверенными шагами; потом шаги переместились в сторону больших темных чердаков второго этажа и наконец затерялись где-то возле пустующих комнат надзирателей, где теперь сушился липовый цвет и дозревали яблоки.
— Я уже слышала этот шум несколько минут тому назад; кто-то ходил по нижним комнатам, — тихо проговорила Милли, — но я подумала, что это ты, Франсуа, вернулся…
Никто не ответил ей. Мы все трое застыли с бьющимся сердцем; и вот отворилась дверь, ведущая с чердака на кухонную лестницу; кто-то прошагал по ступенькам, прошел через кухню — и возник в полумраке на пороге столовой.
— Это ты, Огюстен? — спросила дама.
Перед нами был высокий мальчик лет семнадцати. В сумерках я видел сперва только его крестьянскую войлочную шляпу, сдвинутую на затылок, и черную блузу, стянутую ремнем на ученический манер. Я смог разглядеть, что он улыбается…
Он заметил меня и, прежде чем кто-либо успел потребовать от него объяснений, сказал:
— Пошли во двор!
Какую-то секунду я колебался. Потом, видя, что Милли меня не удерживает, взял фуражку и шагнул к нему. Мы вышли через кухонную дверь и двинулись к площадке, уже погружавшейся в темноту. В неверном вечернем свете я видел его костистое лицо, прямой нос, пушок на верхней губе.
— Посмотри, что я нашел у вас на чердаке, — сказал он. — Ты, должно быть, редко туда заглядываешь.
Он держал в руке маленькое потемневшее деревянное колесо, обвитое фитильным шнуром, — наверно, то было «солнце» или «луна» для праздничного фейерверка.
— Я нашел там еще две такие же штуки, они совсем целые, мы их сейчас с тобою зажжем, — сказал он невозмутимым тоном с видом человека, который уверен в успехе задуманного.
Он сбросил свою шляпу на землю, и я увидел, что он острижен наголо, как крестьянин. Он показал мне две ракеты с бумажными фитилями, видимо, не успевшими догореть до конца. Воткнув в песок ступицу колеса, он вытащил из кармана коробку спичек — к моему величайшему изумлению, так как нам категорически запрещалось иметь при себе спички. Присев, он осторожно поднес спичку к фитилю. Потом быстро оттащил меня за руку.
Минуту спустя, когда моя мать, закончив с матерью Мольна переговоры о плате за пансион, вышла вместе с ней из дома во двор, над площадкой, шипя, как кузнечные мехи, взвились два снопа красных и белых звезд. И какую-то долю секунды она, наверно, могла видеть, как я стою в волшебном сиянии рядом с высокой фигурой новичка, держа его за руку….
Но она и на этот раз ничего не сказала.
А вечером, во время ужина, за нашим семейным столом сидел молчаливый юноша; он ел, опустив голову и не замечая, что мы все трое с любопытством глядим на него.
Глава вторая
ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ ПОПОЛУДНИ
До того времени мне почти что не приходилось бегать по улицам вместе с городскими мальчишками. Вплоть до этого самого, 189… года меня мучили боли в бедре, и я чувствовал себя несчастным и робким. До сих пор помню, как, жалко прыгая на одной ноге, я пытался догнать быстроногих школьников, которые носились по переулкам, окружавшим наш двор.
К тому же мне не разрешалось уходить из дому. И я вспоминаю, как Милли, обычно гордившаяся моим послушанием, не раз крепкими подзатыльниками загоняла меня домой, увидев, что я ковыляю и подпрыгиваю, увязавшись за ватагой шалопаев.
Прибытие Огюстена Мольна, совпавшее с моим выздоровлением, явилось для меня началом новой жизни.
Прежде, до его приезда, конец уроков в четыре часа пополудни означал для меня наступление долгого одинокого вечера. Отец переносил огонь из классной печки в камин нашей столовой; из выстывшей школы, где перекатывались клубы дыма, уходили последние запоздалые ученики. Еще некоторое время во дворе продолжались беготня, игры; потом спускались сумерки; двое дежурных, закончив уборку класса, забирали из-под навеса свои пальто и капюшоны и, подхватив сумки, быстро уходили, оставляя за собой открытыми большие ворота.
Тогда я шел в комнаты мэрии, забирался в архив, где было полно дохлых мух и хлопающих на ветру объявлений, и, пока не угасали отблески дневного света, читал, усевшись в старую качалку возле выходившего в сад окна.
Когда становилось совсем темно, когда на соседней ферме начинали завывать собаки, а в окне нашей кухоньки загорался свет, я шел наконец домой. Мать принималась готовить ужин. Я поднимался по чердачной лестнице, молча садился на третью ступеньку и, прислонившись лбом к холодным прутьям, смотрел, как она разводит огонь в тесной кухне, озаренной мерцанием одинокой свечи…