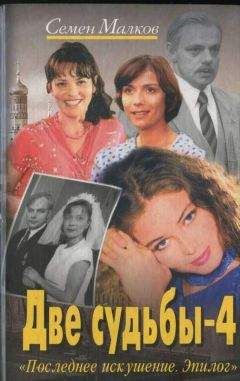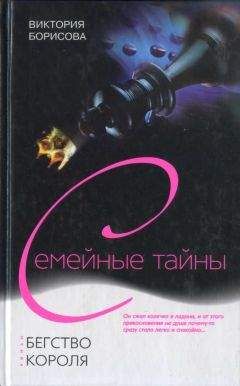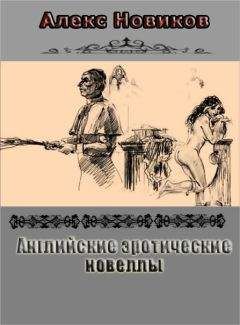К счастью природа русского человека сильнее заблуждений ученых и неученых фанатиков, и как бы ни подавляли ее мертвящие слияния людей без сердца и без истинного разума, при блогоприятных обстоятельствах она снова получает свою жизненность. С некоторого времени в южно-русском образованном обществе начала пробуждаться любовь к родной поэзии и родному языку — но отнюдь не в следствие общего движения Славянских племен к своенародности, как полагают некоторые, движения, сравнительно очень недавнего. Эта любовь выразилась произведениями, которые не имеют большой цены на нынешний наш взгляд, но которых влияние на общерусскую литературу оказалось благотворным. Гоголь от своего отца, автора и актера нескольких драматических пьес на малороссийском языке, получил первое побуждение к изображению малороссийской жизни в повестях. Круг людей, в который он попал по своим житейским обстоятельствам, и влияние окружавших его личностей указали ему формы речи, в которых его создания могли быть доступны обществу: он начал писать по-великорусски. Многие из Малороссиян сожалеют, что он не писал на родном языке; но я нахожу это обстоятельство одною из счастливейших случайностей. По своему воспитанию и по времени, с которым совпало его детство, он не мог владеть малороссийским языком в такой степени совершенства, чтобы не останавливаться на каждом шагу в своем творчестве, за недостатком форм и красок. Каков бы ни был его талант, но, при этом условии, он имел бы слабое влияние на своих соплеменников, а на великорусское общество никакого. Но, заговорив о Малороссии на общедоступном для обоих племен языке, он, с одной стороны, показал своему родному племени, что у него есть и было прекрасного, а с другой — открыл для Великороссиян своехарактерный и поэтический народ, известный им дотоле в литературе только по карикатурам. Судя строго, малороссийские повести Гоголя мало заключают в себе этнографической и исторической истины, но в них чувствуется общий поэтический тон Малороссии. Они подходят ближе к нашим народным песням, нежели к самой натуре, которую отражают в себе эти песни. Нельзя сказать, чтобы произведения Гоголя объяснили Малороссию, но они дали новое, сильное побуждение к её объяснению. Гоголь не в состоянии был исследовать родное племя в его прошедшем и настоящем. Он брался за историю Малороссии, за исторический роман в Вальтер-Скоттовском вкусе, и кончил все это «Тарасом Бульбою», в котором обнаружил крайнюю недостаточность сведений о малороссийской старине и необыкновенный дар пророчества в прошедшем. Перечитывая теперь «Тараса Бульбу», мы очень часто находим автора в потемках; но где только песня, летопись, или предание бросают ему искру света, — с непостижимой зоркостью пользуется он слабым её мерцанием, чтоб распознать соседние предметы. И при всем том «Тарас Бульба» только поражает знатока случайной верностью красок и блеском зиждущей фантазии, но далеко не удовлетворяет относительно исторической и художественной истины. Здесь опять многие из Малороссиян сожалеют, что Гоголь не продолжал изучать Малороссию и не посвятил себя художественному воспроизведению её прошедшего и настоящего; и опять я в его стремлении к великорусским элементам жизни вижу счастливейший инстинкт гения. В его время не было возможности знать Малороссию больше, нежели он знал. Мало того: не возникло даже и задачи изучить ее с тех сторон, с каких мы, преемники Гоголя в самопознании, стремимся уяснить себе её прошедшую и настоящую жизнь. Но если предположить, что Гоголь вдался бы в разработку малороссийских архивов и летописей, в собрание песен и преданий, в разъезды по Малороссии, с целью видеть собственными глазами жизнь настоящую, по которой можно заключать о прошедшей, — наконец, в изучение политических и частных международных связей Польши, России и Малороссии; то приготовления к художественному труду поглотили бы всю его деятельность, и, может быть, мы ничего бы от него не дождались. Напротив, обратясь к современной великорусской жизни, он дохнул свободнее; материалы у него были всегда под рукою, и только сознание недостаточности собственного саморазвития останавливало его творчество. Все-таки он оставил нам памятник своего таланта в нескольких повестях, комедиях и, наконец, в «Мертвых Душах», этой великой попытке произвести нечто колоссальное. Приверженцы развития малороссийских начал в литературе ничего в нем не потеряли, а все Русские вообще выиграли. Да разве мало малороссийского вошло в «Мертвые Души»? «Сами Москвичи признают, что, не будь Гоголь Малороссиянин, он не произвел бы ничего подобного» [3]. Но создание «Мертвых Душ», или, лучше сказать, стремление к созданию (выраженное Гоголем в «Авторской Исповеди» и во множестве писем), имеет другое, высшее значение. Гоголь, уроженец Полтавской губернии, той губернии, которая была поприщем последнего усилия известной партии Малороссиян (приверженцев Мазепы) разорвать государственную связь с народом Великорусским, поэт, воспитанный украинскими народными песнями, пламенный до заблуждений бард казацкой старины, возвышается над исключительною привязанностью к родине и загорается такой пламенной любовью к нераздельному Русскому народу, какой только может желать от Малоросса уроженец северной России. Может быть, это самое великое дело Гоголя, по своим последствиям, и, может быть, в этом-то душевном подвиге более, нежели в чем-либо, оправдается зародившееся в нем еще с детства предчувствие, что он сделает что-то для общего добра [4]. Со времен Гоголя взгляд Великороссов на натуру Малороссиянина переменился: почуяли в этой натуре способности ума и сердца необыкновенные, поразительные; увидели, что народ, посреди которого явился такой человек, живет сильною жизнью, и, может быть, предназначается судьбою к восполнению духовной натуры северно-русского человека. Поселив это убеждение в русском обществе, Гоголь совершил подвиг, более патриотический, нежели те люди, которые славят в своих книгах одну северную Русь и чуждаются южной. С другой стороны Малороссияне, призванные им к сознанию своей национальности, им же самим устремлены к любовной связи её с национальностью северно-русскою, которой величие он почувствовал всей глубиной души своей и заставил нас также почувствовать. Назначение Гоголя было внести начало глубокого и всеобщего сочувствия между двух племен, связанных материально и духовно, но разрозненных старыми недоразумениями и недостатком взаимной сцепки [5].
Я сказал, что малороссийские произведения Гоголя дали побуждение к объяснению Малороссии, и сказал это не без основания. Все, что было до него писано о Малороссии на обоих языках, северно и южно-русском, без него, не могло бы произвести того движения в умах, какое произвел он своими повестями из малороссийских нравов и истории. «Тарас Бульба», построенный на сказаниях Кониского и Боплана, сообщил этим писателям новый интерес. В них начали искать того, что осталось незахваченным казацкою поэмой Гоголя, и сохраненные ими предания старины получили для ума и воображения прелесть волшебной сказки. Это очарование разлилось и на другие летописи, которых до тех пор не замечали за Кониским. Приведение их в известность повело к сличению: открытые противоречия родили потребность узнать истину. Наступил момент исторической разработки, до которого далеко еще было автору «Тараса Бульбы», как это всего лучше доказывает современная этому произведению статья Пушкина о Кониском (в «Современнике» 1830 года), в которой нет и намека на его недостатки со стороны фактической верности. Открыта мною и издана профессором Бодянским «Летопись Самовидца», не имеющая ничего себе равного между малороссийскими летописями. Новый взгляд на историю казацкой Малороссии начал проявляться в печатных и рукописных сочинениях. Недоверчивость к собственным источникам, возбужденная всего больше упомянутой летописью, заставила нас обратиться к источникам польским. Живые сношения знатоков родных преданий с беспристрастными польскими учеными, и преимущественно с покойным графом Свидзниским и Михаилом Грабовским, утвердили в южно-русских писателях здравые понятия об исторических явлениях на Украине обеих сторон Днепра. С другой стороны, профессор Бодянский издал знаменитую летопись Кониского, или «Историю Руссов», которая составляла настольную рукопись каждого почитателя памяти предков в Малороссии, и то, что было уж решено и обсужено на счет её между южно-русскими учеными, но не было еще высказано печатно, по случайным обстоятельствам, — высказано московским профессором Соловьевым в «Очерке Истории Малороссии». С Кониского снята священная мантия историка. Он оказался, во первых, фанатиком-патриотом южной Руси, из любви к ней, не щадившим, на перекор истине, ни Польши, ни государства Московского, — во вторых, человеком необыкновенно талантливым, поэтом летописных сказаний и верным живописцем событий только в тех случаях, когда у него не было заданной себе наперед мысли. Заслуга г. Соловьева, как критика летописи Кониского, велика [6], хотя до сих пор не оценена Малороссиянами, которые унижение своего Тита Ливия приняли, по старой памяти, за недоброжелательство к их родине. Но уже прошли времена умышленного недоброжелательства: оно остается теперь только при тех писателях, которые, как люди, равно чужды сенерно и южно-русскому обществу, и которых имена не достойны быть упомянуты там, где говорится о высоком стремлении к истине. Лучшим заступником г. Соловьева против простодушных неудовольствий некоторых Малороссиян будет их родной писатель, Н. И. Костомаров, которого труды слишком долго для науки оставались в неизвестности, но за то, без сомнения, примутся теперь обществом тем с большим сочувствием и уважением.