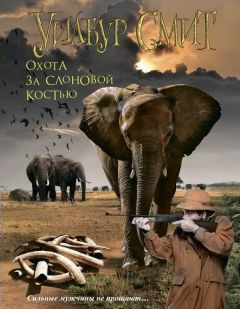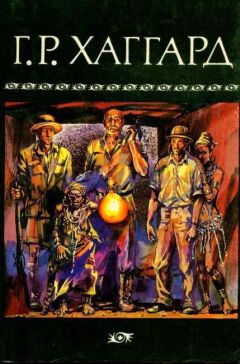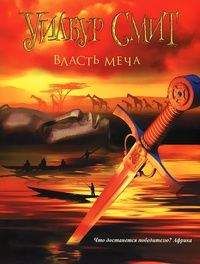– Кто бы мог подумать? – сказал Шаса и подвел мать к плоскому, поросшему мхом камню – ее обычному сиденью.
Она села на камень и поджала ноги, а он улегся внизу на ложе из мха. Несколько мгновений оба молчали. Шаса подумал: сколько раз мы сидели так в этом ее особенном месте, сколько серьезных обсуждений здесь прошло!
– Ты помнишь Манфреда Деларея? – неожиданно спросил он – и оказался совершенно не готов к ее реакции. Мать вздрогнула и посмотрела на него с выражением, которое он не мог разгадать; лицо ее побледнело.
– Что-то случилось, мама?
Он начал вставать, но она жестом попросила его остаться на месте.
– Почему ты о нем спрашиваешь? – спросила она, но он не стал отвечать прямо.
– Разве не странно, что дороги наших семей пересекаются? С тех самых пор, как его отец спас тебя, когда я был младенцем и мы жили с бушменами в песках Калахари?
– Нет необходимости возвращаться к этому, – резко остановила его Сантэн. Шаса понял, что проявил бестактность. Отец Манфреда ограбил шахту Х’ани почти на миллион фунтов в алмазах. Он мстил Сантэн, уверенный, что та сознательно вредила ему. За это преступление его приговорили к пожизненному заключению, и он отсидел почти пятнадцать лет. Освободился Деларей, когда в 1948 году к власти пришло националистическое правительство. Одновременно националисты помиловали много других африкандеров, отбывавших сроки за измену, саботаж и вооруженные ограбления: их осудило правительство Сматса за попытку помешать военным усилиям страны в войне с нацистской Германией. Однако украденные алмазы так и не были найдены, и их потеря почти уничтожила состояние Сантэн Кортни, создававшееся ценой таких трудов, жертв и усилий.
– Почему ты упомянул Манфреда Деларея? – повторила она.
– Он пригласил меня на встречу. Тайную – «плащ и кинжал».
– Ты пошел?
Шаса медленно кивнул.
– Мы встретились на ферме в Свободной республике. Там присутствовали еще два министра правительства.
– Ты разговаривал с Манфредом наедине? – спросила она, и Шаса обратил внимание на тон вопроса и на то, что мать назвала Манфреда по имени. И тут он вспомнил неожиданный вопрос, заданный ему Манфредом Делареем.
«Ваша мать никогда не говорила обо мне?» – спросил Деларей, и с учетом реакции Сантэн на его имя этот вопрос приобрел неожиданное значение.
– Да, мама, я говорил с ним наедине.
– Он упоминал обо мне? – спросила Сантэн, и Шаса удивленно рассмеялся.
– Он задал тот же вопрос – говорила ли ты о нем. Почему вы так интересуетесь друг другом?
Лицо Сантэн стало бесстрастным, и он увидел, что дальнейшие расспросы бесполезны. Эту тайну он не разгадает впрямую. Придется выяснять окольными путями.
– Мне сделали предложение.
Он увидел, что она снова заинтересовалась.
– Манфред? Предложение? Рассказывай.
– Они хотят, чтобы я перешел к ним.
Она медленно кивнула, не удивляясь и не отвергая эту мысль сходу. Он знал, что, будь здесь Блэйн, все было бы иначе. Чувство чести Блэйна, его жесткие принципы не оставили бы места для маневра. Блэйн душой и сердцем человек Сматса, и хотя старый фельдмаршал не вынес душевных мук после того как националисты сместили его, отобрав бразды правления, Блэйн остается верен памяти старика.
– Могу догадаться, зачем ты им нужен, – медленно сказала Сантэн. – Им понадобился первоклассный финансист, организатор и делец. Это единственное, чего им недостает в их кабинете.
Шаса кивнул. Мать сразу все поняла, и его безграничное уважение к ней еще углубилось.
– Какую цену они готовы заплатить? – спросила она.
– Место в кабинете – министр горнодобывающей промышленности.
Он увидел, как взгляд Сантэн рассредоточился; она близоруко смотрела на море. Он знал, что означает это выражение. Сантэн, занявшись расчетами, рассматривала варианты будущего. Он терпеливо ждал, пока ее взгляд снова не сфокусировался.
– У тебя есть причины для отказа? – спросила она.
– А как же мои политические принципы?
– Они намного отличаются от их?
– Я не африкандер.
– Возможно, это твое преимущество. Ты станешь их английским символом. Тебе дадут особый статус. У тебя будут развязаны руки. Уволить тебя для них будет трудней, чем кого-нибудь из своих.
– Я не согласен с их политикой относительно туземцев, с апартеидом. В финансовом отношении она неразумна.
– Боже, Шаса! Ты ведь не веришь в равные политические права черных и белых? Даже Сматс этого не хотел. Ты не хочешь, чтобы нами правил новый Чака, чтобы на черного диктатора работали черные судьи и черная полиция? – Она содрогнулась. – Нас тогда ждет быстрая расправа.
– Нет, мама, конечно нет. Но апартеид– это просто способ захапать весь пирог. Следует оставить кусок и им, нельзя жрать все в одиночку. Это верный рецепт неизбежной кровавой революции.
– Хорошо, chеri. Если ты будешь в правительстве, ты сможешь позаботиться о том, чтобы они получали удары кнутом справедливо.
Шаса с сомнением посмотрел на нее и принялся выбирать в золотом портсигаре сигарету, потом закурил.
– У тебя особый дар, Шаса, – убедительно заговорила Сантэн. – Твой долг употребить его на общую пользу.
Он по-прежнему колебался, желая, чтобы мать высказалась яснее. Ему надо было знать, что она хочет этого так же сильно, как он.
– Мы можем быть честны друг с другом, chеri. Именно к этому мы стремились с тех пор, как ты был еще ребенком. Берись за эту работу и делай ее хорошо, а потом – кто знает, что может последовать.
Оба молчали, понимая, что это значит. Они ничего не могут поделать: в их природе заложено стремление к самой высокой вершине.
– А как же Блэйн? – сказал наконец Шаса. – Как он это примет? Не хотел бы я признаваться ему.
– Это сделаю я, – пообещала она. – Но тебе придется сказать Таре.
– Тара, – вздохнул он. – Вот это будет проблема.
Они снова помолчали, потом Сантэн спросила:
– Как ты это сделаешь? Если перейдешь на ту сторону, станешь мишенью для враждебной критики.
Итак, они договорились; оставалось только обсудить методы.
– На следующих общих выборах я буду выступать под флагом националистов. Мне дадут надежный избирательный участок, – сказал Шаса.
– В таком случае, у нас мало времени для проработки деталей.
Они говорили еще целый час, планируя предстоящие действия с той тщательностью и предусмотрительностью, которые много лет делали их команду такой успешной, пока Шаса не взглянул на мать.