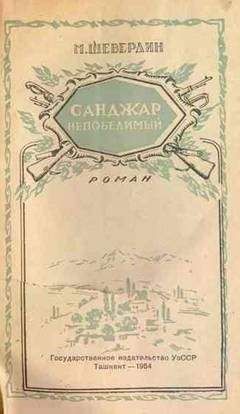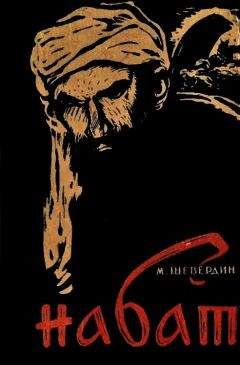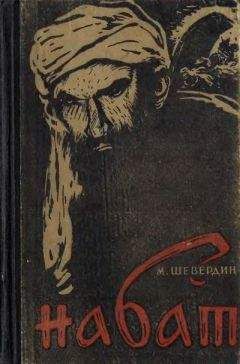Гулам Шо выкрикнул про рабов в то мгновение, когда увидел глаза гурков. Шалые глаза, полные звериной жестокой ярости.
И тогда Гулам Шо спас свою шкуру. Да, теперь он признавался себе, что посту-пил так из самой трусливой жалости к себе. Он хотел жить. И все этим сказано. Он хотел жить и, спасая свою жизнь, не отдал на расправу толпе этого страшного, таинственного вершителя судеб целых народов и государств — Пир Карам-шаха...
В Гималаях следуют полезному жизненному правилу: всякому своя рана больнее.
Когда он, наконец, поднялся с места, никто бы не узнал в этой громадной нахохлившейся вороне царя Мастуджа. Угловатые, корявые черты его лица набрякли, набухли кровью. Рот изломался в судороге, глаза бегали жалко, трусливо. Руки и плечи дергались. Он шатался.
—Теперь, — бормотал он, — пойду к ней. Пусть она, Белая Змея, скажет...
Неуклюже, цепляясь по-медвежьи руками-лапами за перекладины, сполз он по лестнице во двор и побрёл, похожий на курильщика анаши, по двору вниз к воротам.
Вниз... От одного этого слова его тянуло на рвоту. Внизу, далеко внизу, на камнях, лежали они. Или то, что осталось от них — гранатовощёких, усатых, жизнерадостных гурков.
Дней прошлых ароматнейшие травы
всё превратились в горькую полынь.
Цюй Юань
Я — зло, мой отец — несправедливость,
мать — обида, брат мой — вероломство,
а сестра — бедствие. Мой дядя — по
отцу — вред, дядя по матери — унижение,
сын — нищета, дочь — голодная смерть,
родина — разруха, а род — невежество.
Абд ар-Рахман-аль-Каукаби
Реветь быком, которого ведут на бойню, он мог сколько угодно. И, вопреки рассудку, вождь вождей заорал, заревел, когда его столкнули вниз.
Бывают страшные мгновения в жизни, такие страшные, что человек, даже мужественный, кричит совершенно непроизвольно. Невозможно сдержать себя в такой момент.
И, падая, Пир Карам-шах ревел быком. Ударившись всем телом о землю, не испытал особенной боли. Падать пришлось сравнительно с небольшой высоты. Он только тут сообразил, что ревёт во весь голос. Он услышал свой рёв и замолчал. Оказывается, его столкнули в не слишком глубокую яму. До чего страх за жизнь делает человека малодушным, слабым!
Однажды Пир Карам-шаху довелось побывать в неофициальной поездке в... Ташкенте и увидеть в местном музее искусств живописное полотно «Бухарский зиндан». Внимательно, очень внимательно он разглядывал картину. И не из простого любопытства, и не с познавательной целью. Он проверял кое-какие сохранившиеся в памяти впечатления. Ещё и ещё раз, холодно, бесстрастно, он всматривался в созданные гениальными мазками кисти образы несчастных узников эмирской деспотии, доведенных до предела физического и морального унижения и маразма. У него шевельнулась в мозгу странная и даже чудовищная мысль: «Мо-гут не поверить — мыслимо ли, такая гнусность в наш цивилизованный век! Скажут — художник преувеличил. Нет. Такое есть л такое... необходимо. Чтобы держать массы азиатов в повиновении, без зинданов не обойтись».
Он думал так. Он был убежден. А сейчас на себе он испытывал «такую гнусность» с отвращением, с тошнотой. Особенно если гнусность приходилось испробовать на себе цивилизованному, рафинированной культуры — таким он считал себя — представителю белой расы господ.
Липучая грязь на полу, отталкивающие запахи, вечная, почти водная темнота, пронизывающая сырость, болезненный зуд во всём теле, шуршащие в соломе не то крысы, не то крупные насекомые, сознание полного бессилия. К тому же Пир Карам-шаха ошеломил, раздавил почти мгновенный скачок из жизни напряжённой, бешеной, бурной к полной бездеятельности, беспомощности. И это в самый разгар осуществления грандиозных планов, замыслов, действий.
Не раз и раньше Пир Карам-шах думал, что придет час и с ним произойдет нечто подобное. Слишком уж часто он бросался с головой в самое пекло. Но он не допускал и мысли, что произойдет это именно так. Он физически ощутимо представлял отчаянную схватку, удары мечей, выстрелы, воинственные вопли и себя, борющегося, сражающегося из последних сил, истекающего кровью. Словом, он допускал, что и ему придется потерпеть поражение, но не такое постыдное.
Его схватили за руки, прежде чем он успел даже вытащить оружие, выстрелить, сжали в железных тисках, потащили и бросили. Ему показалось, что в пропасть...
Теперь он стоял, прислонившись к влажной глиняной стене, и смотрел вверх, где из круглого отверстия лился жиденький свет, едва разгонявший тьму ямы, совсем так как в картине русского художника.
Яма — удалось ему определить на глаз — имела глубину не более тридцати футов. Проще простого было бы выбраться из нее по торчащим в стене камням. Но зиндан предусмотрительно выкопали со сводчатыми стенами, которые суживались кверху к световому отверстию, как в киргизской юрте. И без лестницы выйти, подняться наверх было невозможно. Пир Карам-шах даже застонал.
Яма оказалась, квадратной формы, со сторонами шагов по пятнадцать. Западня! Мышеловка! И могущественный вождь вождей— мышь. Было от чего закричать. Счастье ещё, что его не связали, не заковали. На полу в грязи валялись огромные колоды с ввинченными в них грубо выкованными цепями с кольцами для рук и для ног.
— Будь ты проклят! — выругался Пир Карам-шах и забегал по аиндану. Ноги разъезжались по слякоти, и он два раза больно ударился о стены, а в третий раз упал. Он сразу не понял, в чем дело. На него, прямо к нему в объятия свалился сверху человек и сбил с ног.
— Клянусь Исмаилом, — прохрипел свалившийся в яму Молиар, — вы поистине гостеприимны и воспитанны, если так вежливо принимаете в своем доме несчастного путешественника, попавшего в столь затруднительное положение. Ассалам алейкум!