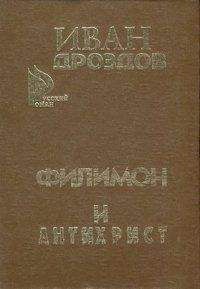— Готовьтесь к отъезду. Только, чур, одно условие: заедем в Приазовск. Там отдыхают академик Терпиморев и мой друг Соловьев. С ними нужно кое–какие дела решить, в том числе и наши с вами общие.
— Какие же?
— Например, судьбу рукописи.
— Но рукопись не готова.
— Готовы две части. Покажем их академику.
В электронике Терпиморев — первый человек. Молите бога, чтобы рукопись ему понравилась.
Предложение задержаться в Приазовске озадачило Самарина, но спорить он не стал. Договорившись о месте встречи, они разошлись: Самарин пошёл домой, а Каиров — к директору института.
Борис Фомич не шел — трусил рысцой по коридорам. Склонив набок голову, устремив взгляд под ноги, он не замечал встречавшихся ему людей: во–первых, многих не знал, особенно молодых, недавно пришедших в институт и заполнивших бесчисленные лаборатории; во–вторых, — и это, пожалуй, главное — Борис Фомич не мог найти верного тона в отношениях с людьми незаметными, незначительными, не играющими в институте какой–либо важной роли.
Директор, как всегда, был занят. Но Борис Фомич лишь головой кивнул секретарю и привычно навалился плечом на обитую желтой кожей дверь. В приставленном к столу кресле сидел известный Каирову журналист Евгений Сыч.
— Знакомьтесь, — сказал директор, — корреспондент областной газеты. Обслуживает район, где почти все наши экспериментальные шахты.
— Мы знакомы, — заговорил Каиров, пожимая руку Сычу. — Я давно хотел с вами встретиться.
Ваша помощь нам частенько бывает нужна. Каиров заговорил об «Атамане», о новых шахтах района.
— Мы ведь как раз в вашем районе большую работу ведем. В частности, моя лаборатория… Рассчитываем на помощь, товарищ Сыч…
Сильно закашлялся директор. Трясущейся желтой рукой он полез в ящик стола, достал белые крупные таблетки. Его грузное тело все содрогалось от кашля, глаза налились слезами.
— Лежали бы дома, Николай Васильевич, — с напускной строгостью проговорил Борис Фомич. И, обращаясь к Сычу: — Вот он всегда так, наш директор: не долечится и — на работу. Будто здесь все остановится без него или пожар случится.
Николай Васильевич Шатилов глубоко и безнадежно болел. Он перенес два инфаркта и с тайным страхом ожидал третьего. В последнее время у него к тому же усилились приступы болезни печени, после которых он долго не мог подняться на ноги, а поднявшись, ходил разбитый и желтый. Состояние здоровья и было причиной его перевода в институт. Раньше он работал начальником крупнейшего в стране комбината «Степнянскуголь», слыл за умного, энергичного руководителя, первейшего в стране знатока угольного дела. Ему бы после болезни попроситься на пенсию, но он вбил себе в голову роковую мысль: «Уйду на пенсию — умру». И принял предложение стать директором института. Вот и тянет Николай Васильевич непосильную ношу. Ученые киты, подобные Каирову, выходят из повиновения, молодежь подтрунивает над ним. Слишком уж часто Шатилов не бывает в институте. Секретарь заученно говорит: «Директор болен». Когда в институте возникает конфликт и требуется вмешательство директора, ученые безнадежно машут рукой. Наиболее откровенные не преминут съязвить: «Хотите в гроб уложить директора».
— Да, да, мы должны вместе, — прокашлявшись, сказал директор, — наука и пресса — двигатель прогресса. Вместе, в одну точку.
— Статейку б надо поместить, — подсказал Каиров. — Рассказать о поисках. Мы теперь электроникой занялись — большие дела делаем.
— Вот эти ваши дела и привели меня к вам. Говорят, приборчик у вас есть любопытный — АКУ называется.
— Есть такой, — сказал Каиров, кинув быстрый, тревожный взгляд на директора. «Все ли тут чисто?» — говорил его взгляд. — Хороший приборчик, очень он нужен горнякам, — пояснил учёный.
— Говорят, АКУ был уже установлен на шахте, да сырой, недоделанный? — обратился с вопросом к Каирову журналист и вынул из кармана блокнот, приготовился писать.
Каиров снова взглянул на директора: «Нет ли тут подвоха?», но помутневший от сердечной боли взор директора ничего не говорил Каирову. Приходилось дуэль выдерживать в одиночку.
— Обычное дело, — заговорил учёный, — механизм проходит испытание, люди выявляют неполадки, устраняют их. Ординарный случай.
Сыч на это ничего не ответил учёному, но тщательно записывал его пояснения. Каиров заглядывал журналисту в блокнот, но ничего там не мог разобрать. Интерес Сыча к прибору Самарина ему не нравился, он сердцем чувствовал что–то неладное. Не нравилась ему и манера Сыча со всем соглашаться, поддакивать, а свои тайные мысли придерживать за пазухой.
— Покажите в газете наших учёных, например Папиашвили, — продолжал советовать Каиров. — Светлая, скажу вам, голова. Мы вам и других назовем.
— Конечно, конечно, хороших людей много, — согласился Женя, поднимаясь со стула. — Непременно напишем! Сыч подошел к директору, тепло простился с ним. Кивнул Каирову. И пошёл к выходу.
Каиров и Шатилов, проводив взглядом корреспондента, несколько минут сидели молча и недвижно. Они не смотрели друг на друга — каждый думал о своем. Директор знал больше Каирова о намерениях Сыча; журналист уважал Шатилова и говорил с ним откровенно. У него уже собран кое–какой материал о приборе Самарина. Судя по всему, статью он напишет нелестную для института. «Вот тебе и новые неприятности! — думал Шатилов, прислушиваясь к болям в сердце. — А все из–за него, Каирова, — досадовал директор. — Бесплодная лаборатория — вот и приходится собирать с миру по нитке для отчета. И дернул меня черт санкционировать эту затею!..»
Хотелось бы Шатилову рассказать о фактах, собранных Сычом, да боялся директор крупного разговора — сердце заболит ещё сильнее. А рассказать бы хотелось. «Так, мол, и так, уважаемый Борис Фомич, этот молодой–то, белобрысенький да с блокнотиком — по вашу душу приходил. У него в папочке ух какой материальчик лежит! И письмо от инженеров «Зеленодольской». Пишут о приборе Самарина, о том, какую важную работу исполняет прибор на шахте, как опасно горнякам оставаться без него. А корреспондент — паренек дошлый — все выяснил, везде побывал. И в техническом управлении был, видел там бумагу из института. Подписал её Каиров. Пошёл «дефекты» в приборе, обосновал, убедил снять его и направить ему, Каирову, на доработку. А ну–ка, подождет–подождет дошлый журналист да посмотрит потом на «доработки» — выяснит, что никаких доработок там не было, — вот тогда намылит он нам шею на глазах у всего мира. А ещё, не приведи господь, да в то самое время, когда шахта останется без прибора, кто–нибудь из шахтеров нарвется на оголенный провод. Словом, дельце нехорошо пахнет, И хоть я и сам намекал подправить кое–что в приборе, но снимать его и направлять в институт я не приказывал. Нет–нет, тут уж один ты виноват, один, — корил он Каирова. — А мы твои фокусы знаем. «Доработает», прибавит какую–нибудь кнопку, а потом зачнет шуметь на всех собраниях. Дескать, смотрите, какой прибор соорудила лаборатория шахтной автоматики!..»