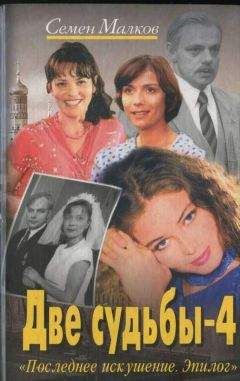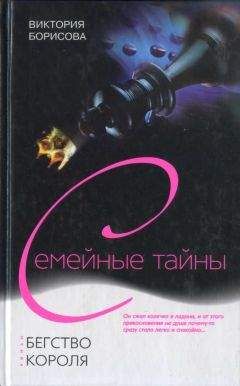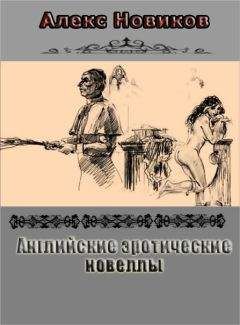В промежутках между такими ныряньями, запорожцы вели между собою странный разговор, заставивший трепетать сердце матери и дочери.
— Вот, брат, девка! кричал один. Будь я кусок грязи, а не запорожец, коли я думал, что есть такое чудо на свете!
— Есть сало, да не для кота! отзывался другой.
— От чего ж не для кота? Хочешь, сейчас поцелую!
— А как поцелуют киями у столба?
— А что мне кий? Да пускай меня хоть сейчас разнесут на саблях.
Богомолки наши боялись, чтоб в самом деле он не вздумал исполнить свои слова; но тут встретился глубокий байрак, и запорожцы полетели в него, как злые духи.
— Василь! сказала тогда Череваниха своему вознице, — куда это мы заехали? Что это с нами будет?
— Не бойтесь, пани! отвечал усмехнувшись Василь Невольник, добрые молодцы только шутят, они забавляются вашим страхом, они никогда не тронут девушки.
Это успокоение мало однакож подействовало на встревоженных женщин, и они велели прибавить шагу, чтоб скорей догнать передовых своих защитников, мало надеясь на помощь дряхлого возницы.
Запорожцы опять показались по обеим сторонам дороги. Платье их было забрызгано свежим илом; но они не обращали на это никакого внимания.
— Гей, брат Богдан Черногор! кричал опять старший братчик, — знаешь, что я тебе скажу?
— И, вже! отвечал тот. Путного ничего не скажешь, прилипнувши к бабе!
— От же скажу!
— А ну ж?
— Скажу тебе такое, що аж оближесся.
— Ого!
— И не ого! Слушай-ка. Хоть Сечь нам и мати, а Великий Луг батько, но для такой дівчини можно отцураться от батька и от матери.
— Чи вже б то?
— А що ж?
— Ну, куды ж тогда?
— Овва! [64]
Тут Запорожцы скрылись опять из виду. Богомолкам от этого страшного совещания стало не веселее прежнего, и они торопили Василя Невольника ехать как можно скорее. Но Василь Невольник вздыхал и говорил сам к себе:
— Что за любезный народ эти запорожцы! Ох, был когда-то и я таким забиякою, пока лета не придавили, да проклятая каторга не примучила! Скакал и я, як божевільный, по степям за Кабардою; выдумывал и я всякие шутки; знали меня в городах и на Запорожье, знали меня шинкари и бандуристы, знали паны и мужики!
— Да еще я не то скажу тебе! послышался снова грубый голос старшего братчика.
— Было б довольно и этого, отвечал его товарищ, — когда б услышал батько Пугач: отбил бы он у тебя охоту к бабьему племени!
— Нет, не шутя, Богдан! какой чёрт будет шутить, когда вцепятся в душу такие черные брови? Хоть так, хоть сяк, а дівчина будет моею! Знаешь, брат, що?
— А що?
— Поглядеть бы мне, что у вас там за горы.
— Оттакои! [65]
— Такои. Пускай не даром зазывал ты меня к своим воевать турка. Коли хочешь, схватим, как говорят у нас, девойку, да и гайда в Черную Гору.
— И будто ты говоришь это по правде?
— Так по правде, как то, что я Кирило Тур, а ты Богдан Черногор. С такою кралею за седлом я готов скакать хоть к чёрту в зубы, не то в Черногорию!
Этот открытый заговор, не смотря на шуточный свой тон, был ужасен в устах запорожцев, этих причудливых и своевольных людей, способных на самые безумные затеи, — людей, которые смотрели насмешливо на жизнь и мало заботились о том, чем она кончится. К счастью, рыдван нагнал в это время Шрама и его спутников; запорожцы вдруг исчезли, как тяжелый сон, и уже больше не показывались.
Обычаи запорожские странны, поступки хитры, слова и вымыслы остры и большею частию на критику похожи.
Из рассказов запорожца Коржа (записанных по-великорусски.)
Богомольцы наши, без дальнейших приключений, достигли святых ворот Печерского монастыря, имевших тогда вид замковой башни, и снабженных пушками и ружьями, к которым не раз прибегали обитатели монастыря во время войны с иноверцами и татарских набегов.
Выслушав позднюю обедню в великой, «небеси подобной» церкви Печерской, Шрам и его спутники приложились к святым мощам, осмотрели изображения князей, гетманов и вельмож, создателей и благодетелей храма, писанные во весь рост на задних и боковых стенах, и читали на их надгробиях поучительные надписи. Древние поборники православия, посредством этих надписей, беседовали с потомками, и одними своими именами говорили душе их о доблести имени русского. К сожалению, ничего подобного в церкви Печерской теперь мы не видим. Старинные портреты и надгробия отчасти истреблены пожаром в начале прошлого столетия, а отчасти уничтожены рукою невежества, которое для всякого рода памятников страшнее огня и железа. Грустно было Хмельницкому видеть «красоту церквей божиих опустошенну и на землю поверженну» иноплеменниками и отступниками; не менее грустно и нам видеть, как мало уцелело в наших храмах из того, что миновала или пощадила даже рука монгола и католика.
Шрам в этом отношении был счастливее нас. В одном месте он читал, что такой-то «Симсон Лыко, муж твердый в вере, испытанный в храбрости, почил по многих делах, достойных героя»; в другом знаменитый князь как бы из гроба говорил ему: «Многою сиял я знатностию, властию и доблестию; а когда взят с позорища сей жизни, то с убогим Иром сравнялся, и за свои широкие владения седмь ступеней земли получил; не дивуйся таковой отмене, читателю: и тебе тож достанется; узнаешь на себе, что не равны рождаемся, равны умираем!» Далее, пышный вельможа умолял читателя — проходя мимо, «молвить о нем благое слово: «Боже, милостив буди к душе раба твоего» [66].
Вид этих надгробий, на которых арматура и знаки достоинств перемешаны были с костями, сложенными накрест под мертвою головою, и чтение этих надписей, говорящих разом о величии и ничтожестве человеческом, навели на душу полковника Шрама печальное раздумье, и он, подобно внуку Ольгерда, сказал вздохнувши:
— Сколько-то гробов! а все эти люди жили на сем свете и все отошли к Богу! Скоро и мы пойдем туда, где отцы и братия наши [67].
Вслед за таким размышлением, он достал из-за пазухи золотой чекан, добытый на войне, и повесил его на окладе Богоматери. Черевань и прочие богомольцы, также сделали приношение храму дорогими вещами или деньгами.
Из великой церкви направились они к пещерам, где почивают мощи Антония, Феодосия, Нестора Летописца и других великих подвижников южно-русского православия. Но тут их остановила непредвиденная — по крайней мере непредвиденная для некоторых — встреча. Вдали на дороге показалась небольшая группа людей, одетых в платья ярких цветов и преимущественно в кармазин, что в те времена было признаком старшинства. Впереди всех, важною поступью шел высокого росту мужчина, в жупане, расшитом золотом, в собольей кирее [68] на плечах, и с серебряной булавой вместо трости. Провожавшие его монахи и паны держались в почтительном отдалении.