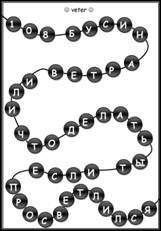И пир собран был – от стола глаз не отвести. Не догадаешься, что голодно людям, что кое у кого уже и зубы шатаются!
– Вот это я понимаю, – одобрительно проворчал Эгиль. – У нас тоже бывает такой неурожай, что ячменя не хватает даже на пиво. Но уж когда Йоль, ни один гость не должен уйти голодным и трезвым. А иначе и дела не стоило затевать!..
Искры Твердятича при них уже не было. Ушёл к собратьям своим, отрокам, чтобы на пиру служить прославленным гридням, могучим боярам и знатным гостям – среди прочих Харальду, другу своему, и Твердиславу, родному батюшке. Годков десять назад Пенёк радовался бы и гордился, глядя на сына. А ныне ровесники Искрины многие сами уже были кметями, случись большое немирье – городскую рать в бой станут водить. А Искра? И ведь справный вроде бы парень, вот что обидно-то…
В разгар пира, когда приблизилась к перелому самая тёмная ночь года, раскрылись двери и двое отроков, перешагнув высокий порог, внесли большое, как щит, деревянное блюдо с горячей, дышащей перепечей. Перед молодым князем быстренько расчистили стол, и блюдо бережно опустилось на льняную браную скатерть. Колышущаяся гора печенья, пряников и сладких пирожков была, ничего не скажешь, внушительной. Вот уж правду молвил старый датчанин: потом – хоть зубы на полку, а на священном пиру, где ложки на стол кладут чашечками вверх и рядом с людьми незримо присутствуют Боги, должно быть изобилие. Иначе весь год не видеть добра!..
Князь Вадим, как от пращуров заповедано, укрылся за блюдом и оттуда громко спросил:
– Видно ли, братие и дружино?..
– Где ты, княже? – первым спросил Твердислав.
– Где ты, княже?.. Не видать!.. – отозвались с разных сторон.
– Вот и в следующий раз чтобы не видать было… – распрямился во весь свой немалый рост молодой князь.
– Господине! – поднял медовый ковш боярин Твердята. – Дозволь слово молвить.
– Молви, боярин, – кивнул кудрявой головой Вадим. – По глазам вижу, совет хочешь дать. А и бездельного совета ты мне до сих пор ещё не давал…
Твердята встал, держа в руках ковш.
– Батюшка светлый князь, – сказал он Вадиму. Тот по летам своим годился ему в сыновья, но что с того? Князь своим людям отец, они ему дети… – И вы, братие, Вадимовичи! Думал я нелёгкую думу, с вами хочу перемолвиться…
Иные за длинными столами досадливо сморщились. И старые бояре на почётных лавках, и молодые гридни, рассаженные по скамьям. Про что могла быть у Пенька нелёгкая дума? Про голодуху, про зверя и птицу, удравших далеко в лес, про хвори и злые знамения, сулящие беды ещё круче теперешних… Тот же разговор, с которым уже подходили к боярину ближние друзья. Твердята сурово их обрывал, но чувствовалось – потому и обрывал, что самого грызло похожее. А сегодня, видать, своими устами решил высказать князю всё, что другим воспрещал. Зачем, ради чего? В праздник-то?..
Твердята недовольство побратимов заметить заметил, но не дрогнул ни лицом, ни душою. Да ведь и Вадим на него смотрел, не спеша затыкать рот.
– А мыслил я, княже, о том, что воевода и подручник твой Рюрик, без правды в Ладоге севший, уже не молод годами, – проговорил он задумчиво и спокойно. – Не сказать чтобы ветхий старинушка, да и каков на мечах, про то все мы ведаем не понаслышке… Только всё равно наследника у него нет, и в един миг не сладишь его…
Седые кмети начали хмыкать, разглаживать пальцами усы. Всем стало любопытно, куда всё же клонит хитроумный боярин.
– Рюрик вдов, и законной княгини мы у него перед людьми и Богами не ведаем, – продолжал Твердислав. – Родил же он до сего дня двух дочерей, да и те умерли в пелёнках. Ещё были у князя хоробрые братья, а и нет больше…
Многие при этих словах посмотрели на Харальда, словно его, а не другого кого следовало благодарить. Харальд по-словенски вовсе неплохо уже понимал. Приосанился, плечи расправил.
– Славное дело тот сделал, кто у вендского сокола гнездо разорил… – пробормотал Эгиль сын Тормода.
– Так я о том, братие, – сказал Твердислав, – что ежели случится с варягом худое… Немочь какая прицепится или дурная стрела в бою долетит… он же в походы ходит по-прежнему… На кого Ладогу оставит? Вас, смы́сленные, спрашиваю! Бояре его без князя в городе не уживутся, все норовом круты… – И улыбнулся: – Сувора попомните! Что сам, что дочка его…
Тут захохотала вся дружинная изба. Правду молвить, каждому было что вспомнить и про боярина Щетину, и про удалую Крапиву Суворовну. Кто-то пребольно получил от девки пяткой в колено за то, что на хмельном пиру ляпнул бойкое слово про неё и про молодых отроков, её лихих друзей. А кто-то удостоился крепеньким кулачком чуть повыше колена, когда потешно боролись и вздумалось показать ей, что девке след думать бы о других потехах, не воинских… Вслух, правда, вспоминали совсем о другом. О том, например, как молодой Сувор прикладывал бодягу к лицу и нипочём не желал сознаваться, что это приветила его гордая славница, Твердяты будущая жена.
– Скверно будет, если начнутся раздоры, – переждав смех и воспоминания, проговорил Твердислав Радонежич. – И так уже сколько раз город стольный горел, когда датчан хоробрых отваживали…
Харальд напрягся, опустил рог, из которого собирался пить. Вот эти слова уже точно относились к нему. «Датчане хоробрые» не было оскорблением, да и смотрел Твердята не вражески… И соплеменникам Харальдовым, коим Вадим был не в пример милее Хрёрека конунга, в Новом Городе жилось вовсе не плохо. То-то они даже имя городу своё придумали, чтобы легче произносить. Вадим всё хотел выкопать ров, сделать кремль подобием неприступного островка, и меткие на язык датчане загодя изобрели называть крепость Хóльмгардом – Островом-Городком…
– Я к тому, что с датчанами и князем их Рагнаром Кожаные Штаны ты, княже, по светлому вразумлению от Богов, нашими устами о мире уговориться сумел, – завершая свою речь, вымолвил главное слово Твердята. – Да так сумел, что меньшой Рагнарович вот он сидит, датчанами, под твоей рукой сущими, правит ради тебя. Кто на этакое понадеяться смел, когда паруса на лодьях ставили, из Ладоги отплывая?.. Думали – век вечный с датчанами резаться будем, а ныне гостями мирными их к себе ждём… То ведаю, княже, с Госпожой Ладогой мириться стократно трудней будет. Свой со своим злее ратится, чем с десятком чужих. Только и тебе, княже, лепо ли стол отеческий так просто бросать?
Твердислав сел.
А дальше всё случилось не так, как он ожидал. Думал – осердится гордый молодой князь, кабы на двери не указал вгорячах, ох и потрудиться придётся, чтобы впредь хоть слушать заставить… Думал – станет вятшая дружина шуметь, спорить, друг друга перебивать и сама меж собой чуть не рассорится, взапуски советуя князю… Но для того требовалось, чтобы спросил князь у дружины совета. А он не спросил.
Только посмотрел на Твердяту, и зоркому боярину помстилось – не в глаза посмотрел, сквозь. Словно последний раз про себя взвешивая что-то давно выношенное, обкатанное мыслью, точно речной камешек бегучей волной… Странно это было и, если подумать, нехорошо. Больно уж не вязалось с княжеским норовом, – а норов, ежели не в час попадёшь, бывал, что огонь, на трепетице зажжённый… Но о том думать Пенёк примется позже. А пока он просто обрадовался, услышав из княжеских уст столь долго и без больших надежд жданное:
– Дело говоришь, Радонежич. Не зря, видно, батюшка мне слушать тебя заповедовал… Кого же по весне к Рюрику послом послать присоветуешь? Уж не сам ли запросишься?..
Попозже загасили старый огонь, отягчённый грехами миновавшего года. Всюду загасили его – и в печах, и в самом последнем светце. Каждый дом в Новом Городе стал тёмен, и только кругом Перунова изваяния как горело шесть сильных костров, так и осталось гореть. Этот огонь не прекращается никогда, и он чист. Это Божий огонь, и меркнуть ему не след: все знают, что случится с Землёю и Небом, если он прогорит. Только человеческому очагу позволено гаснуть и возгораться опять, ибо наделён человек рождением и смертью. И способностью выбирать для себя Добро или Зло…