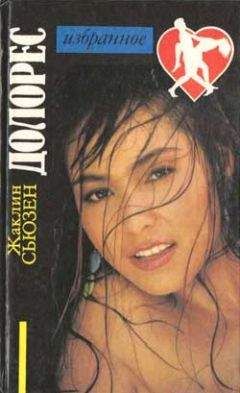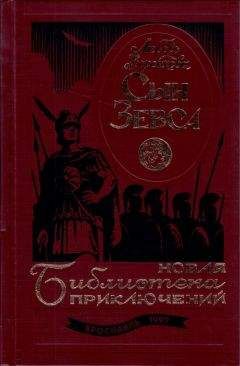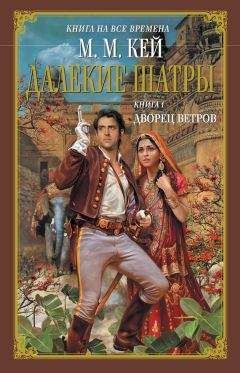— Ну так что ж: Беловы да Беловы. Чем мы-то лучше других? Я вот, например?..
— Точно не скажу, но мнится мне — ты средь нас, Беловых, не последний.
— С чего бы это? — с внутренним волнением продолжал спрашивать Вовка.
— Есть таки люди, вроде с печатью на лбе. Не всякому дано ту печать разглядеть. Ты еще маленький был, а все с подскоком да с вопросом. Тока подумашь: воды бы испить, а ты уже несешь ковшик. Иной антирес у тебя к людям и к жизни. Хотя, думаю, людей ты не очень-то жалуешь. Может, я в том виноват: я их, людей то есть, также не жалую. Я вопче сужу о человеке по его поведению в лесу. Как себя ведет, така ему и оценка. Вить дрянной человек — всюду дрянной. На лес он смотрит как на место, где все дармовое, значица, можно хапать, ни на кого и ни на что не оглядываясь — на других людей, на закон, на Бога. Возьми хоть тех же заготовителей, что каждое утро ездят в лесосеки. В них не осталось ничего живого, потому как они кажный день губят живое. Отсюда пьянство, дебош в семьях. Душа у них выгорела. Дотла выгорела. Дозволь им, то и людей так же хлестали бы топорами, а то и пилили пилами. И пьют вить не такие, как я по возрасту, потому как нас воспитывали на добре, — пьют их дети, вот как брательник твой Санька. Это поколение уже с младенчества приучено к мысли, что лес растет для погубления и деньги платят, смотря по тому, сколь деревьев загубил. Вошли в года и стали хлестать без оглядки. Им вить никто никогда не говорил, что лес — это живое.
— Но ведь в том нет их вины?
— Вины их нет, и это правильно. Но где семья, школа, государство, наконец? Значица, пошатнулись извечные устои и захромал на обе ноги народец-то. Не в лучшую сторону захромал, и така политика, ежели она будет продолжаться, к добру не приведет. Можно срубить перестойное дерево, а рядом оставить подрост. Они же хлещут направо и налево — лишь бы побольше нахлестать и побольше отхватить деньжищ. И деньги эти — дурные деньги. Нет в них радости. А коли нет радости, то пропить их как бы и не жалко. Дурному — дурное употребление!
— Зачем же пропивать? Я бы не пропил, а в дело пустил, — вставил свое Володька.
— Земля и ее богатства, паря, не бездонны, — продолжил свою мысль старший Белов. — Когда-то, при таком-то отношении, они закончатся. Че тада будет делать человек? А вить в природе от Бога все было так устроено, что ежели брать разумно, то все возобновлятся. Навроде того, что кажный год приходит весна и все кругом начинает зеленеть. Летом нарастают плоды. Осенью их срывают и готовятся к зиме. Зиму природа отсыпается — отдыхат то есть. И так мильены лет. И вить не устает природа делать свою работу. Не устает, ежели к ней с умом и бережением. Вот как нельзя губить этот кедрач. Но самое подлое я вижу в том, что творимое повсеместно зло уже отражатся и дале будет отражаться на всех, независимо от места жительства и рода занятий.
— И Люська говорила мне, что у Ануфриева короткий срок жизни…
— Твоя сестра, хлебнув иной жизни, быстро поумнела. Поселок обречен и будет ликвидирован сразу же, как тока кончится лесосырьевая база. Как кончены были мелкие леспромхозы и поселки при них. Остались тока одни брошенные кладбища. Ежели не ликвидируют, то просто бросят, а там уж кажный будет глядеть — гнить в нем иль куды бежать. Вот почему я изначально не схотел селиться в Ануфриеве, хотя мог бы, как твой отец, Степан Афанасьевич, поставить дом и жить себе припеваючи. Второе мое соображение было в том, что Ануфриево — это уже чужая мне земля, хоть и недалече. И третье соображение такое: я не хотел иметь ничего общего с погубителями природы.
— А выселки… останутся?
— Что ж выселки… Выселки не замараны кровью живого леса. Они сами по себе. Жил же мой дед Ануфрий Захарович, ни в ком не нуждался, а я что ж?.. Придет срок, и попрошусь в богадельню, чтоб было кому руки на груди сложить. Мне с моими военными орденами не откажут. Земля ж всех уравниват.
— Дядя Данила, ты почему семью-то не завел? — спросил о давно интересовавшем.
— Семью-то? — переспросил, усмехнувшись, старший Белов. — Семья не напасть, да как бы семейному не пропасть… Ежели сурьезно, то и сам не знаю…
Задумался, будто в памяти своей оглянулся на прожитую жизнь. Медленно подбирая слова, продолжил:
— Женщина по плечу так же, как и дело по сердцу. Вот че толкат людей друг к дружке? Ну че?.. Я думаю, что первое — это страх. Страх остаться одиночкой. В одиночку же всегда труднее. Часто так быват, что хочется у кого-то на плече выплакаться. Женщина ж существо мягкое, теплое. И с тобой вместе всплакнет. Вот и ладно. И дале пошел ломить. Я ж помоложе был — ни у кого на плече не плакался, а ноне — тем боле. А вот любовь, сказывают, есть — в это я верю. Тридцать с лишком лет прошло с войны, а все помню русалочку-санитарочку. Не потому, что любила меня иль я не смог найти ей замену. А потому, что сильней меня оказалась. Сильней карактером. Нутром. Вить былатакаж молодая, как и я. И верх надо мной взяла, хоть того и не желала. Недаром же сказывают: сила силу ломит. Но это другая сила — сила женского сердца. Под таку силу можно и лечь. Така сила превыше всего на свете. Не предаст. Не обманет. Всю кровь тебе отдаст каплю за каплей. Вся иссохнет, а в тебя вдохнет жись… А за это — не страшно в огонь и в воду…
— И держал бы. Че ж отпустил?
— Все, о чем тебе сказываю сейчас, я понял позже. Тада ж не до нее было: шла война, где никогда не знашь, будешь ли жив. Некогда было оглядеться, собраться с мозгами. Да че теперь ворошить, я ж тебе уже сказывал…
Данила поднялся с валежины, пошел, ни слова не говоря. За ним и Вовка.
Кедровый лес, если в него всмотреться, будто светится изумрудно-зелеными иголками деревьев. Нигде более, чем в кедровом лесу, так зримо не чудится отсвет небесных светил.
Какая-то несказанная печаль разлита вокруг. Печаль сродни человеческой. При всей кажущейся могутности, кедр поражает какой-то своей незащищенностью, неспособностью постоять за себя и только полагаясь на разум того, кто приходит к нему с колотом ли, с топором ли, с пилой ли. И что там скажешь: красота может остановить погубителя только красотой. Только она, красота, и может привести в восхищенно-жалостливое оцепенение, и рука, в коей орудие погубления, вдруг поослабнет, и очерствелое сердце вдруг станет биться так сострадательно, что нельзя, невозможно будет содеять зло. А всякое зло — невозвратно. Как бы потом ни каялся человек, как бы ни рвал на себе волосы, зло уже свершилось и возврата к прежнему нет.
Кедр — всем деревьям дерево, недаром растет он не только в Сибири, но и в таких запредельных для понимания сибирского жителя заморских краях, где он никогда не бывал и никогда не побывает.