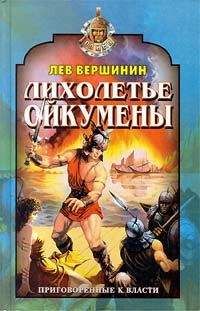Значит, война проиграна, еще не успев начаться.
Сейчас не устоять. После? Возможно, даже наверняка. Все переменится к лучшему. Равнодушная Ананке-судьба капризна, и самим Олимпийцам неведомы ее причуды, Кассандр быстро наскучит капризнице. Но теперь… Нет ничего страшнее зимней войны, которая пришла неожиданно. Ни подготовиться. Ни предупредить об опасности. Скоро, очень скоро по молосским поселкам пройдут, врываясь в дома, жадные до крови и добычи фракийцы-наемники, и, разделенные завалами мокрого снега, не чающие никакой беды сонные селения вынуждены будут подчиниться, спасаясь от испепеления, особенно если с побережья, через плоскогорья Хаонии, двинется по воле Кассандра второе войско, зажимая беззащитные земли молоссов в железные тиски блокады…
– И что же? – торопит ближних царь.
– Нам не устоять, – первым решается произнести неизбежное Аэроп, седой исполин, даже сидя на голову возвышающийся над остальными. Ему проще сделать это, чем кому-либо другому, ибо его никто не заподозрит в робости. – Нужно уходить. Что до меня, государь, то я – с тобой. Всегда и везде. До конца.
Ему можно верить. Он – не просто тень царя. Он – почти брат. Некогда родство его с царской семьей закрепила кровь, смешанная в деревянной чаше Александра, старшего брата, не вернувшегося из-за моря. Аэроп ходил с ним. Был рядом во всех сражениях. Кроме последнего, рокового. Кто знает, не валяйся он в тот день в малярийном бреду, быть может, Александр Молосский сумел бы покорить италийских варваров. Именно Аэропу выпало выкупить тело царя и предать его, владыку и побратима, огню. Аэроп повидал мир. Он мудр и честен, и царь Эакид слушает его, как слушал бы старшего брата…
– Нам не устоять ныне, – уточняет щуплый на вид, жилистый Андроклид, и узенькая, совсем козлиная бородка его забавно вздрагивает. – Но недолго Молосская земля будет терпеть македонцев, поверь, господин, пусть даже Кассандр завалит Великий дуб дарами по самую крону. Следует переждать. А я, по воле отцов и богов, не покину тебя…
Словам Андроклида – особая цена. По праву наследования Андроклид – томур, один из вековечных хранителей священной рощи. Он умеет провидеть грядущее и толковать тайный язык шелестящих ветвей Родителя Лесов. Придет день, и он возглавит сообщество томуров, каждое слово которых – закон не только для эпиротов, но и для любого, кто чтит Диоса-Зевса.
– Уходи, царь-отец! – хрипло взлаивает простуженный на ветру глоткой Клеоник, и на шее его – царь это знает, не глядя – от натуги наливается темной кровью сизая полоса, несмываемый след рабского ошейника. – Мы задержим их. А ты уходи!
Слова тонут в кашле. Так рвуще он кашлял, когда, давно уже, на горной тропе царь, вышедший поохотиться на снежного барса, подобрал полузамерзшего беглеца и не оставил, а взвалил на плечи, принес во дворец и долго отпаивал молоком и горячим медом, спасая от почти уже настигшей беднягу смерти. И смерть отступилась. А Клеоник так и остался с тех пор рядом с базилевсом и дважды уже спасал ему жизнь в набегах на непокорных долопов…
– Нет! – отвечает Эакид. – Царь в ответе за все. Уйдете вы! Уйдете сейчас же. Немедля. А я с войском останусь здесь. Клянусь листвой дуба, мы покажем Кассандру, во что обойдется ему Молоссия!..
Глаза ближних тусклы и пасмурны. Но возражений нет. Царям в походе не перечат. Тем более что он прав. Плох вождь, не сумевший разглядеть ловушку. Но всякое бывает в жизни, и не попрекают неудачника несчастьем. Однако вождю, бросившему воинов в беде, недолго занимать молосский престол.
Не всегда смерть – наихудший из возможных исходов.
В отдалении жуют твердый сыр, режут мясо, шуршат ремнями и овчинами, перешептываются, щадя надорванные голоса, воины. Они даже и не думают прислушиваться к их разговору. К чему? Оружие наточено, псы натасканы, силы подкреплены пищей, а враг уже близко. Вот все, что следует знать бойцу перед битвой, а лишнее знание, как учат старики, не пойдет во благо.
Знать много подобает лишь базилевсу.
– Спешите в Додону. Ты, Андроклид, собери томуров. Скажи: пусть Отец лесов не оставит Молоссию; пусть говорит людям, что беда не пришла надолго…
– Сделаю, царь-отец, – вскидывает бороденку Андроклид и вдруг хихикает. – Дуб не может отказать Неоптолему в благословении на престол. Он, увы, законный наследник твоего храброго брата. А вот благого оракула полоумный не дождется!
Вопреки всему, Эакид ухмыляется. Еще бы! Можно представить себе, как день за днем все беды Эпира станут приписывать неудачливости навязанного чужеземцами царя.
Ох, и нелегко же придется Неоптолему…
– Отличная мысль, дружище! – кивает царь. – Аэроп! Клеоник! Не мешкая, бросьте в небо дымы! Если придет достаточно людей, закройте перевалы… Впрочем…
Эакид досадливо щелкает языком. Глупо! Как мог он забыть о другом войске, вскользь помянутом пленником? О шести тысячах гоплитов-македонцев, что по воле Кассандра не нынче, так завтра высадятся с кораблей на побережье? И о тех сотнях хаонских юношей, которые, конечно же, пристанут к македонским воякам как по собственной глупой ретивости, так и по приказу своих хитроумных старейшин?..
– Нет. Не нужно дымов. Не стоит дразнить бешеных собак. Заберите семьи. Заберите казну. Короче, возьмите все, что успеете погрузить на мулов, – и уходите в Иллирию…
Аэроп исподлобья глядит на царя. Глядит с восторгом.
Мудрая, достойная базилевса мысль. Иллирийцы – отнюдь не друзья, напротив, они давние враги. Давние и честные. Они ведь тоже горцы, а законы гор запрещают отказать в убежище врагу, молящему о защите.
– Прощайте, друзья. Помните обо мне!
– Но господин!.. – взлаивает Клеоник, забыв обычай. Ему простительно. Он усыновлен молоссами, но по крови не молосс. Поэтому царь отвечает возразившему без гнева, словно несмышленышу в беседах взрослых:
– Довольно. Я сказал.
Все. Слово произнесено. Назад пути нет. Сняв с шеи витую цепь тусклого серебра с грубо отлитым золотым медальоном, изображающим орла, распростершего крылья, Эакид протягивает древнюю инсигнию* Аэропу.
– Отдашь моему сыну, когда подрастет. Верю: ты сумеешь воспитать его. Всем завещаю: пусть Пирр вырастет достойным молоссом. И пусть знает, к какому роду принадлежит. Я же не забуду вас, друзья, и в Эребе.
– Так будет, господин, – склоняет сивую голову гигант, и томур кивает, глотая непрошеную слезу, и шрам на шее Клеоника уже чернее сгустившейся тьмы.
Трое поднимаются со снега.
Они еще здесь, но уже и не здесь. Они уходят в жизнь и этим уже отделены от всех остальных, пока еще спящих, пока еще жующих, пока еще живых воинов, бестревожно ожидающих скорой битвы.