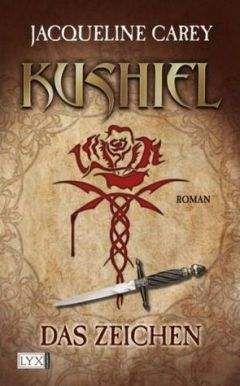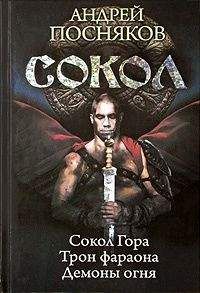Протирая глаза и расправляя длинные спутанные волосы, приподнялся чернобородый тощий монах и удивленно стал осматриваться, поводя темными глазами.
– Куда ж это нас Господь принес? Неужели приехали в родную землю? Ну и трепали же нас смерти на море!
– Вставай, очнись, святой отче! Опосля дивиться будешь. Иди за мной.
– А что за монах? Откуда он?
– Его на берег здешние степняки притащили. Верно, один из ваших монахов будет. Пожелал на родной земле Богу душу отдать. О родном доме все вспоминает, и о снетках, и о Прасковье. Только едва ли до них доберется.
Монах встал, длинный, тощий, в старой выцветшей рясе, и сейчас же снова повалился, так как лодка покачнулась. Собрал все свое скудное имущество: кожаную сумку, посох из «ливанидова дерева» (кедра ливанского), глиняный кувшин и деревянную миску. Подхватив старый тулуп, он последовал за женщиной, осторожно переступая через лежавшие тела. Выбравшись из лодки и подойдя к умирающему старцу, он нараспев прочел несколько молитв, потом опустился на колени и склонил свое оттопыренное ухо к устам лежавшего. Долго он слушал, потом отодвинулся и спокойно уселся рядом на земле. Все бывшие поблизости внимательно за ним следили.
– Спит! – сказал монах и вздохнул.
Гребцы стали варить в медном котле похлебку.
По-видимому, поблизости находился табор степняков. Стали приходить и взрослые и дети и на некотором расстоянии садились на пятки, обнимали колени, следя блестящими глазами за всем, что происходило на берегу. Они переговаривались вполголоса, сильно размахивая руками, и при громких окриках гребцов все вдруг разом поднимались, готовые бежать.
Покончив с похлебкой, гребцы, владельцы дуба, стали сзывать путников обратно в лодку.
– Эй, странники-богомольцы! Живее садитесь в дуб, того и гляди дождь нагрянет. Заранее укладывайтесь и лежите тихо. Потому в пути по дубу ходить заказано!
Все поспешили в лодку. Остались на берегу только больной старик и тощий монах, который вынул из сумки потрепанный Псалтырь и начал его громко нараспев читать. К нему подошел один из гребцов.
– Что же ты медлишь, отче преподобный?
– Не видишь, что ли, иеромонах кончается!
– Так давай перенесем его в лодку. Ему место найдется.
– Меня не ворошите, – простонал умирающий. – Схороните здесь, под этим деревом.
– Ждать нам никак нельзя, – дорога дальняя. И тебе здесь оставаться не след: место глухое, рядом степняки – народ разбойный, ненадежный.
– Все едино: ежели Господь повелит, то и степняки не тронут. Но сей седовласый брат наш имеет священный сан иеромонаха, и я не могу его здесь одного покинуть, аки зверя лесного.
Гребцы отошли, потолковали меж собой и направились к лодке. Один остановился и сказал:
– Все одно его хоронить: что здесь, что у порогов! В последний раз говорю: давай мы его перенесем в лодку!
– Я останусь с отцом болящим, – ответил монах и продолжал, не двигаясь, смотреть в Псалтырь, – а в Киев я и пешком дойду.
– Ой, не дойдешь! Путь долгий да буераками дикими изрезан, а народ тут беспокойный. Лучше подожди, за нами другой дуб скоро приплывет, – на нем и доедешь.
– Я в самый ад кромешный попал, когда татары всех православных рубили в Рязани, и все же неиссеченный домой вернулся. Мне ли перед этими степными братьями робеть! Поезжайте с Богом, путь вам добрый!
Гребцы размотали канат, перекинули через плечо бечеву, влезли в прикрепленные к ней лямки и мерными шагами пошли берегом. Один из гребцов на корме с длинным веслом и другой, стоявший с шестом на носу лодки, направляли дуб на «чистую воду», отталкиваясь от подводных камней.
Два монаха остались на берегу. Читавший Псалтырь изредка посматривал на неподвижное лицо больного и замолкал, прислушиваясь к его дыханию. Издалека еще долго доносилась мерная песня, которую завели дубовики, упорно шагавшие вперед против течения реки.
Старшина, скрывавшийся в камышах, снова подошел к монахам, опустился рядом с ними на землю и положил свой посох. К нему приблизились несколько других степняков и уселись вокруг.
Молодая женщина в просторной одежде с множеством разноцветных бус на шее принесла глиняный кувшин с молоком. Колдун что-то ей пробормотал. Она опустилась в головах лежавшего монаха и, окунув руку в кувшин, начала с пальца, как младенцу, капать молоко в полуоткрытый рот умирающего. Его губы зашевелились, и он с усилием стал глотать.
Старшина тронул за плечо читавшего Псалтырь монаха, указал рукой на небо и сказал:
– Тенгри…
Потом он сжал ладонь в кулак и, вглядываясь в глаза монаха, добавил несколько непонятных слов.
Старик прошептал едва слышно:
– Это он говорит… «Тенгри»… по-ихнему небо… Хочет, чтобы все люди были братья… Как пальцы на руке… И собирались, когда нужно, в одну десницу… Я у них прожил три года с евангельской проповедью. И этот старик, ихний старшина… тоже, как другие, у меня крестился… А колдуном по-старому остался… чтобы свои боги не разгневались.
Больной затих. Монах, отложив Псалтырь, наклонился к нему:
– Скажи мне, отче: кому весть о тебе подать, ежели я в Киев доберусь? Может, в обитель какую зайти?
Старик еле слышно прошептал, задыхаясь:
– В Киеве найди тысяцкого Дмитро… Скажи ему, что известный ему иеромонах Вениамин, тот, что последние годы «черных клобуков» и торков просвещал, а теперь к смерти готовится от старческой немощи, – посылает воеводе Дмитру свое благословение на подвиг ратный, ибо бегут уже отсюда на закат солнца все степняки перед врагом лютым, именуемым татарами, а воинам их несть числа… Но святою правдою и нашей крепостью мы, сыны русские, их одолеем! Пусть встанут крепко за землю родную, и силы небесные принесут нам победу!
Часть восьмая
Последний час Киева
Глава первая
Тревога в Киеве
Прошло горячее засушливое лето 1240 года, миновала золотая осень, и все это время мимо Киева тянулись длинной вереницей и всадники разных кочевых племен Дикого поля, и пешие люди, и нагруженные телеги: «черные клобуки», половцы и другие степные обитатели уходили прочь из Дикого поля; непрерывно на лодках и плотах переправлялись через Днепр и двигались дальше, мимо Киева, в надежде найти где-то там, за лесистыми Карпатскими горами, спокойную трудовую жизнь.
Скрипели тяжелые возы, запряженные волами, медлительной поступью шагали двугорбые верблюды, навьюченные частями разобранных войлочных шатров, пылили стада овец с неизменным козлом впереди, и проносились табуны разношерстных коней. Вокруг них скакали завернутые в шкуры конюхи в войлочных малахаях с длинными гибкими жердями, «укрюками», с петлей на конце. Они старались сбивать коней вместе в табуны, не давая им разбрестись по привольной беспредельной Дикой степи.

![Аллэин Флаер - Веревки и цепи. Часть первая - Веревки. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)