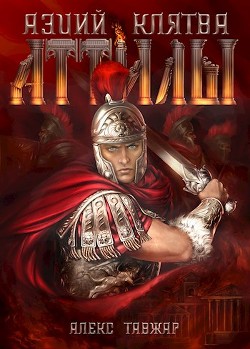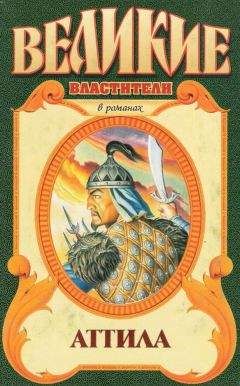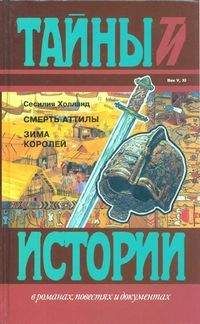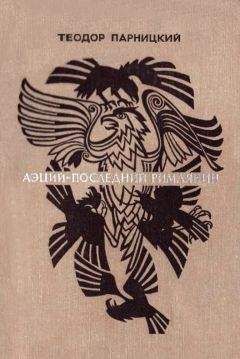Этим влиятельным человеком был спасенный из Маргуского заточения и снова ставший магистром Западной армии Флавий Аэций.
Приставку к имени Флавий он получил вместе с саном патриция. К пятидесяти годам у него было всё, чего только может добиться человек его положения. Он пользовался непререкаемым авторитетом в армии, располагал достаточной властью для принятия решений, каждое его слово имело вес. Во славу великого полководца воздвигли статую в Риме. Сочиняли хвалебные панегирики. Женитьба на бывшей жене Бонифатия принесла ему нежданное счастье. Долгое время страдавшая от бездетности Пелагея забеременела и вот-вот собиралась родить.
В ожидании этого дня Аэций не мог не думать о своих сыновьях от первой жены Сигун. Руа сообщил, что один из детей находится у него на Волхе, а другой ушел к степнякам. Аэций решил, что это и к лучшему. Оба давно уже выросли, в наставлениях не нуждаются, и, раз уж так вышло, что считают его погибшим, то незачем их будоражить, пусть и дальше остаются в неведении. Единственно, что его беспокоило — усыпальница в Маргусе. Вместо него в саркофаг положили наемника, убитого императорской стражей. Аэций договорился с епископом Маргуса, что саркофаг откроют и уберут останки, но по-тихому это сделать не удалось. Гаудент от кого-то услышал, что отцовскую усыпальницу грабят, и послал туда скифов. Он и представить не мог, что в саркофаге лежит ублюдок, стороживший отца в подземелье. Об этом не знали и в Маргусе. События в крепости постарались замять. Августа хранила о них молчание. А сам Аэций вел себя так, словно сроду там не бывал.
В Константинополь он прибыл по приглашению императора Феодосия. Со всех сторон на него так и сыпались льстивые речи. Вокруг как будто забыли, что он тот самый Аэций, которого обвиняли то в помощи узурпатору, то в сговоре против Константинополя. На приеме к нему неожиданно обратился Аспар и предложил обсудить какое-то неотложное дело. Раньше он никогда не вел себя так настырно.
Бедняга, с усмешкой подумал о нем Аэций. Это же надо с таким позором провалить сражение с конницей степняков. А ведь Аспару тоже под пятьдесят. И если не одолеет их в ближайшем бою, то вполне возможно так и останется полководцем, не способным победить степняков.
Встречу назначили после приема у императора Феодосия.
Поначалу Аэций только и мог, что сравнивать себя с одряхлевшим Аспаром. Тот был довольно тяжел, обзавелся двойным подбородком и пивным животом, выпирающим из-под складок одежды. В сравнении с ним Аэций, должно быть, выглядел моложаво. Все та же подтянутая фигура. И седина в волосах незаметна. И вполне еще годен, чтобы махать мечом.
Аспар, как и многие в Константинополе, предпочитал разговаривать на ходу, чтобы труднее было подслушать. Он повел Аэция вдоль каких-то деревьев. Расспрашивал о здоровье августы, о своих знакомых в Равенне, называл какие-то имена. А потом вдруг спросил у Аэция, не был ли он знаком с человеком по имени Севастий.
— Служил с ним, — спокойно ответил Аэций, хотя и почувствовал, как закипает кровь от одного только звука этого имени.
— Вот бы мне с ним увидеться, — многозначительно проговорил Аспар.
— Горячо разделяю ваше желание, — не менее многозначительно улыбнулся Аэций. — Насколько я знаю, он находится здесь.
— В Константинополе?
— Именно так. Я уже несколько раз обращался к императору Феодосию с просьбой его разыскать. В прошениях он значится как Себа́стьен. Таково его полное имя.
У Аспара брови полезли на лоб.
— Тот самый Себа́стьен, зять Бонифатия? Или это случайное созвучие имен?
— Никакого созвучия. Тот самый Себа́стьен. В Равенне он бежал из-под стражи, его до сих пор не могут найти.
— Об этом я слышал, слышал… — кивнул Аспар и добавил с притворной печалью. — Какая ирония. Начальник стражи был заключен под стражу. Кстати, другого пропавшего мы уже отыскали.
Аэций слегка напрягся.
— Другого пропавшего?
— Да, это карлик, как же его… Зеркон, — ответил Аспар. — Самый забавный из всех, кого я когда-либо видел. Августа его искала, насколько я знаю.
Аэцию вдруг показалось, что небо над ним посерело. Все это время Зеркон находился у скифов вместе с одним из его сыновей и, если сбежал, значит, что-то у них случилось.
— Ах, точно, вы правы. Августа его искала, — проговорил Аэций, не подавая вида, что новость его сразила. — Так, где он?
— А вон, за деревьями, — ответил Аспар. — Там его держат за шкирку, чтобы опять не сбежал. Я поболтал с ним о том, о сём. Он рассказал мне весьма занимательную историю.
— Надеюсь, вы ему не поверили, — на всякий случай сказал Аэций.
— А-ха-хах, — рассмеялся военачальник Феодосия. — Да кто же верит шутам? Мы нашли его на невольничьем рынке в клетке. Когда спросили, как он там очутился, ответил, что разыскивает потерянную жену, только представьте, ха-ха, разыскивает жену.
— Действительно, очень смешно, — произнес Аэций, высматривая глазами дерево, за которым держат Зеркона.
И вот в листве показался сгорбленный силуэт.
Прежде чем выдать Аэцию, карлика привели в порядок. Причесали седые лохмы, нарядили в пестрое. Покрытую темными пятнами кожу отбелили мукой. И в довершение напялили шутовской венок. Зеркон стоял на коленях в колосистой траве, торчавшей ему до подбородка. Императорский страж в золотом нагруднике держал его за массивный ошейник, заставляя неестественно вытягивать короткую шею. У второго стража в руке был кожаный хлыст, как у торговцев рабами на невольничьих рынках.
Зеркон безразлично сносил свое положение, но, увидев рядом с Аспаром фигуру Аэция, сморщился так, что потрескались белила на лбу. Аэций взглянул в его почерневшие от испуга глаза. В них было всё — страдание, боль, вина. И сердце на мгновение умерло. Аэций вдруг понял, что случилось самое страшное.
*
В покоях консула их могли подслушать — через отверстия в стенах, в полу, потолке. Аэций втащил Зеркона в молельню, но даже там предпочел перейти на норский, которого здесь не знали.
— Говори, что случилось, — произнес он вполголоса, но вместо ответа Зеркон повалился на испещренный мозаикой пол, загородился локтями, словно лампадка слепила ему глаза и захрипел:
— Не бейте. Я знаю, что виноват, но не бейте…
Аэций присел рядом с ним, освободил от ошейника, который стягивал шею, и, придерживая за локоть, переместил на обитую шелком скамеечку для молений.
Зеркон тяжело дышал. Краска, которой его набелили, наполовину стерлась, и он, как двуликий янус, был наполовину черен, на половину бел.
— Не уберег я его. Не смог… — прошептал он, избегая глядеть на Аэция. — Подошел к нему, а он уже весь в крови, не двигается, не дышит.
— Который из них? — спросил Аэций.
— Старший.
Выходит, тот, что был выше ростом. Гаудент…
Аэций поднялся на ноги. Уставился тяжелым взглядом на статуэтку богоматери, белевшую на подстолье.
— Смерть была легкой?
— Не знаю, — застонал Зеркон. — Я подошел слишком поздно… Пусть бы они убили меня. Но почему его? Он был таким молодым, таким прекрасным…
Аэций услышал, как он всхлипывает, и, повернувшись к нему, спросил:
— А младший?
— От него мы получали послания из Великой Степи́, — ответил Зеркон, — а самого не видели с той поры, как ушел к Чеменю, но и того уже нет в живых.
— Об этом меня известили… А Руа?
— По слухам сгинул за морем в какой-то бойне, но доподлинно мне неизвестно. Руа был в отлучке, когда на нас налетели.
— Кто налетел?
— Понятия не имею. Я убежал оттуда, еле ноги унес.
— А почему не пришел ко мне?
Зеркон зажмурился так, что исчезли веки.
— Я испугался, не знал, что мне делать, бежал и бежал куда-то, и только хотел умереть. А потом меня посадили в клетку и повезли на невольничий рынок. Я даже не знаю, кто…
Когда он открыл глаза, Аэция рядом не было. Какое-то время в спальне слышались удаляющиеся шаги, но вскоре стихло и там.
*
Утром Аэцию принесли письмо. Пелагея разрешилась от бремени мальчиком и спрашивала, как его назвать. Посыльный сказал, что быстрее всего ответить голубиной почтой, но тогда послание должно быть коротким. Аэций кивнул, мол, знаю, и нацарапал одно лишь слово: «Гаудент». Называя новорожденного в честь погибшего сына, он с надеждой думал о том, что другой его сын по-прежнему жив и в скором времени даст о себе знать.