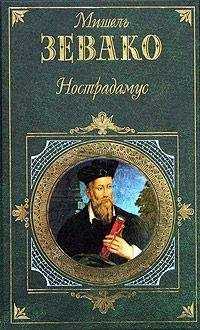Нострадамус прекратил работу, подошел к принцу и сказал:
— Да, знаю. И понимаю, что вам тоже хочется узнать.
— Да! О, да!
— Вы уверены, что этого хотите?
— Клянусь душой, хочу!
Нострадамус помолчал, размышляя. Странная улыбка искривила его губы. И он прошептал:
— Да, это справедливо, что вы хотите услышать имя отравителя. Ну, так знайте. Этой ночью, узнав о том, что сегодня кого-то отравят, я бросил в пространство крик, надеясь этим криком остановить преступника. И я убежден, что до него донесся мой голос. И — это тоже вам надо знать я назвал его Каином…
Франсуа так и подскочил на постели и стал еще бледнее, чем был только что, когда метался в агонии…
— Каин!!! — взревел он. — Каин!!! Но ведь тогда это должен быть… должен быть… Ох!
— Я не знал, кого он собирается отравить. Я не знал имени отравителя. Но я знал, что убийца заслуживает того, чтобы его назвать Каином… и я так назвал его…
— Каином! Именем человека, убившего своего… своего брата!
— Это вы сказали, — заметил Нострадамус с величественной и ужасающей простотой.
И снова принялся усердно трудиться над составлением противоядия.
— Анри! — едва выговорил охваченный смертельным ужасом дофин. — Анри! Это мой брат пытался отравить меня! Каин…
Наконец он замолчал. Больше никто из двоих не сказал ни слова. Время шло. Часы дворца звонко пробили одиннадцать раз. Одиннадцатью глухими ударами им ответил церковный колокол. В этот момент Нострадамус подошел к дофину. Он держал в руке маленький флакончик с изумрудной жидкостью. Франсуа жадно потянулся к лекарству.
— Нет, пока нельзя, — ласково сказал Нострадамус. — Этой микстуре нужно еще охладиться и настояться. На это уйдет не меньше часа.
— Значит, в полночь? — спросил дофин.
— Да, в полночь. Но что такое всего один час, если вы уже побывали на пороге вечности? Сейчас вы будете спать, так надо.
Нострадамус не отводил взгляда от принца, и тот, под воздействием этого внимательного взгляда, почувствовал, как на него волнами накатывает сон, как тяжелеют руки и ноги…
Внезапно глаза дофина закрылись. Нострадамус несколько минут прислушивался к его спокойному и ровному дыханию, потом вернулся к столу и сел, уронив голову на руки. Ученый в нем уступил место страдальцу… Бесконечно горестно, охрипшим от тоски голосом он тихо позвал:
— Мари!
Да-да, мы говорим только о том, что было на самом деле: он именно позвал! Черты его лица, казалось, окаменели. По лбу струился пот. Было видно, что он совершает нечеловеческое усилие. Он звал:
— Мари! Мари!
Перенесемся на минутку через пространство и окажемся в Париже.
Убогая и печальная лачужка неподалеку от тюрьмы Тампль. Бедная постель. Нищенскую обстановку освещает смоляной факел. На кровати — молодая женщина мечется в лихорадке… Мужчина гигантского роста сидит в углу… Над кроватью склоняется женщина… Мужчина — это тюремный смотритель Жиль. Женщина — это Марготт.
Только что пробило одиннадцать часов вечера. Больная… Нет, вернее, раненая… Эта молодая женщина внезапно садится в постели. Взгляд ее блуждает. Черты лица окаменели. Кажется, что она прислушивается… Она слушает!
И вдруг она испускает пронзительный, страшный крик. Марготт что-то шепчет ей, пытается уложить. Напрасные усилия: тело раненой напрягается, застывает в неподвижности. Это больше не человеческое существо, это мраморная статуя. Руки молитвенно сжаты у груди, глаза смотрят в одну точку, они остекленели. Она слушает!
Потом резко падает обратно на тощую подушку, безмолвная, бездыханная. Теперь она похожа на труп. Марготт поворачивается к замершему в своему углу мужу.
— Умерла? — спрашивает колосс.
— Нет. Сердце бьется. Но…
— Но?
Марготт бледнеет, дрожит и глухим голосом отвечает:
— Но душа опять улетела…
В кардинальском дворце городка Турнона, в комнате, где мирным сном спит дофин Франции, Нострадамус, облокотившись на стол и спрятав лицо в ладонях, неподвижный, окаменевший, мысленно произносит какие-то слова. Вот что он говорит:
«Где ты? Почему уже столько месяцев подряд я ищу тебя и не могу найти? Моя мысль, унесенная на крыльях Неведомого, летит к тебе, тщетно обшаривая пространство… Значит, ты бежишь от меня? Мари! Мари! Разве ты не чувствуешь, разве ты не понимаешь, что в моем сердце восторжествовала любовь?»
Дрожь пробегает по телу молодого человека, но он продолжает немой разговор с отсутствующей:
«Послушай, Мари! В ту ночь, когда я простил тебя, в ту ночь, когда я, окровавленный и истерзанный, уткнувшись лицом в каменные плиты, взывал к тебе, кричал о любви и о прощении, моя мать не явилась мне. Она не вышла из могилы, чтобы напомнить сыну о данной им клятве! Она не пришла сказать, что я должен с неутихающей ненавистью преследовать дочь Круамара! Мари! Мари! Тогда я все понял! Мари де Круамар, ты — невинная жертва собственного проклятого имени! Мари, ты была всего лишь бессознательным орудием в руках судьбы, слепым орудием рока, поразившего мою мать! Мари, я прощаю тебя! Мари, я люблю тебя! Послушай, послушай же! Мари, я умоляю, я заклинаю тебя! Мари! Мари! Где бы ты ни была, я хочу, чтобы ты услышала голос, который зовет тебя! Голос твоего возлюбленного… Твоего супруга… Мари, живая или мертвая, я хочу, чтобы ты пришла!»
«Живая или мертвая!»
Означали ли эти слова, что дерзкий и отважный дух молодого человека решился не только преодолеть пространство, но и победить саму Смерть? Или Нострадамус стал жертвой мимолетного безумия, порожденного отчаянием? Или, наконец, он на самом деле попытался проникнуть в тайные глубины, которые не дано постичь никакому человеку?
Тишина в комнате стала трагической. Медленно-медленно тянулся час, в конце которого должно было наступить назначенное время. Стрелки, которые невозмутимо двигались к своей цели, словно змея, подбирающаяся к жертве, потихоньку приближались к цели, намеченной судьбой: к цифре XII… Полночь!
Незадолго до того как часы должны были пробить двенадцать, дофин Франсуа пробудился, судорожным движением приподнялся в постели, вытянул руки так, словно отталкивал что-то невидимое, и, снова упав на подушки, закричал — дико, истошно, ужасно.
Этот крик заставил очнуться и Нострадамуса: он силой оторвал молодого человека от мира непостижимой мечты и вернул в реальный, видимый, осязаемый мир. На лицо Рено… на лицо возлюбленного Мари легла печать невыразимой печали. Казалось, он переполнен отчаянием. Губы его дрожали. Он шептал: