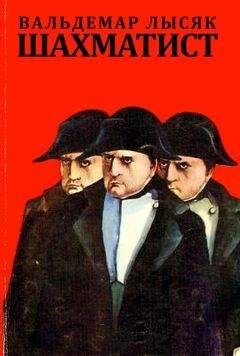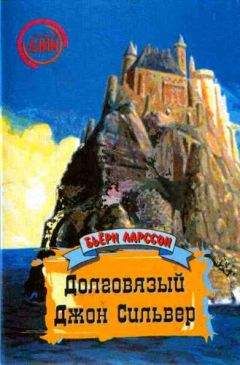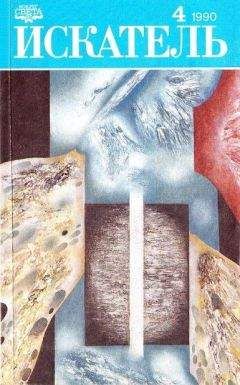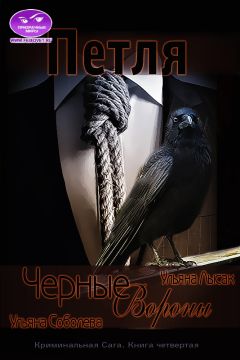Роберт Стюарт, виконт Кэстлри, маркиз Лондондерри[8], родился в 1769 году, то есть, был ровесником Наполеона и Веллингтона. Карьера этого богатого англо-ирландца была даже слишком блестящей. Начинал он в компании вигов, но очень быстро предал товарищей, перейдя в ряды консервативной партии. Когда ему было всего тридцать шесть лет, он вошел в последний кабинет Питта в качестве военного министра и министра колоний. Поражение под Аустерлицем было личным поражением заядлого «ястреба». Уступая портфель вигу Уиндхему, он впервые в жизни испытал горечь политического аутсайдерства. Пассивность оппозиции, оживляемая лишь парламентскими дебатами, не было тем, что могло бы удовлетворить игрока с амбициями Кэстлри.
Способ, благодаря которому этот человек в 1794 году оказался в ирландской Палате Общин, прекрасно демонстрирует его политические методы. Ему и его отцу это стоило тридцать или шестьдесят тысяч (источники расходятся) фунтов стерлингов, сунутых в нужное время в нужные руки. Из подкупа Кэстлри сделал эффективный инструмент политической игры, и вскоре он был признан крупнейшим на Британских Островах виртуозом в данной области. Свое показательное выступление он дал в 1800 году, подкупив за миллион фунтов стерлингов голоса ирландских коллег-парламентариев в пользу союза с Англией. Лорд Корнуоллис назвал все это «презренным торгом»[9], только Кэстлри плевать хотел на это брюзжание. Самым главным для него была цель. А цель была достигнута: ирландский парламент, а вместе с ним и вся Ирландия (родина Кэстлри), теряли остатки независимости в силу договора 1801 года, образующего Соединенное Королевство. Даже критики восхищались его виртуозностью, что доказывает истинность утверждений Макиавелли. В частности того, что политическую репутацию строят не на средствах, а на результатах.
Местом их встречи был некий скромный снаружи, но достаточно изысканный внутри дом, расположенный в районе между Хай Холборн и Оксфорд Стрит. Дом этот принадлежал некой Этель Джибсон и был первым в ее жизни личным домом. Два предыдущих, в Дублине, были — пользуясь терминологией, используемой в настоящее время — абсолютно не частными. Кэстлри привез хозяйку из Ирландии вместе с дочерью и устроил в упомянутом доме, выплачивая высокое ежемесячное содержание за исключительные права на красавицу Филлис. Благодаря этому, ему не приходилось пользоваться услугами неразборчивых дамочек, с самого заката выжидавших на Странде, Хеймаркете, Ковент Гардене и Друри Лейн, а самое главное, удовлетворение он мог черпать в соответствии с собственным ритуалом, освоенным Филлис Джибсон до совершенства. Он не был гедонистом, так как тогда он не был бы хорошим политиком. Он признавал лишь один принцип: в политике и в эротике необходимо навязывать собственные правила, после чего их скрупулезно соблюдать, пока они эффективны (в первом случае) и приятны (во втором). В тот день второе он уже получил, первое его только ожидало. Был понедельник 20 октября 1806 года, семь часов вечера.
В четверть восьмого Кэстлри, с Times под мышкой, освеженный и сытый, прошел ожидать гостей в большой салон, заполненный классическими формами в стиле Роберта Адама, с большой хрустальной люстрой, свечей в которой еще не вытеснило новейшее масляное изобретение генуэзца Арганда. Стены были покрыты картинами и зеркалами, а фарфор из Дерби, Челси и Вустера и французская бронза грозили раздавить мебель своей избыточностью. Хозяйке явно не хватало вкуса, что, наверняка, раздражало бы Кэстлри, если бы младшая дама в семье была лишена красоты и некоторых других, столь же ценных женских свойств. Ожидание ему заполнило чтение «личной колонки», в которой случались довольно забавные объявления.
Первым, за несколько минут до восьми, появился граф Генрих Батхерст, барон Эпсли, перед смертью Питта — управляющий Государственного Монетного двора. Он был на семь лет старше Кэстлри, но такой же хитрый, не знающий жалости и реакционный в вопросах общества, религии и политики. Даже английский историк напишет о нем впоследствии: «Он был одним из тех странных отпрысков нашей политической системы, в обычае которой на самые высшие посты назначать величайших подлецов»[10].
Обменявшись приветствиями, Батхерст спросил:
— Зачем такая спешка?
— Терпение, Генрих, не хочу повторяться, поэтому причину скажу, когда все будут в сборе. Тогда ты сам удостоверишься, что я должен был вас пригласить. Самое подходящее время…
— А место?
— Место тоже подходящее. Кроме нас троих никто не знает, где мы встречаемся; у этих стен, по-видимому, ушей еще нет. Про Норт Крей[11] и Сент-Джеймс-Сквер[12] я этого сказать бы не мог.
— Роберт, ты серьезно?
Кэстлри указал на три удобных кресла, окружавших стол возле камина, давая этим приглашающим жестом понять, что они уже слишком долго стоят, и только когда сели ответил:
— Дорогой мой, ты удивляешься так, будто не знаешь, что Лондон буквально кишит агентами Фуше и Савари[13], которые строят из себя изгнанных из Франции роялистов. Самое смешное, что мы их поддерживаем и нянчимся с ними.
— Роберт, ты преувеличиваешь. Стоят они нам не слишком дорого, а в будущем еще могут пригодиться. Я говорю про роялистов. Наверняка среди них есть и сволочи, что работают на французскую разведку, но большинство ненавидит корсиканца точно так же, как и якобинцев. Они чудом спаслись от гильотины, у них отобрали имения, изнасиловали их дочерей. Когда они вернутся в Париж…
— Без нашей помощи им этого не удастся, — перебил его Кэстлри, — и поверь мне, когда они вернутся, то в один миг, вместе с дорожной пылью, смоют с себя память обо всем, что мы для них сделали. Это же французы, Генрих, французы до мозга костей! Впрочем, погляди — все больше их и вовсе не ожидает победы. Они возвращаются домой и поступают на службу к Бонапарту. Думаешь, что среди возвратившихся нет таких, у кого изнасиловали дочерей? Вся штука в том, что насиловали якобинцы, а Бонапарт передавил якобинцев как клопов и они об этом знают. Мне интересно, почему это до сих пор они все не поползли к нему, и когда размышляю над этим, то прихожу к выводу, что они нужны ему здесь, среди нас. Но еще больше меня интересует, с каких это доходов они подкупают наших людей: то ли из тех денег, которые берут от Парижа, то ли из тех, которые клянчат у нас. Недавно я обнаружил, что один из моих слуг копается в моих бумагах, и я даже знаю, кто это.
— Прикажи посадить его в тюрьму.
— Зачем мне делать такую глупость? Если бы я это сделал, рано или поздно перекупили бы другого, а так я могу контролировать игру, могу подсовывать ему то, что хочу, оставляя его работодателей в дураках. Кроме того, он готовит потрясающий пунш. Кстати, что выпьешь, пунша или вина?