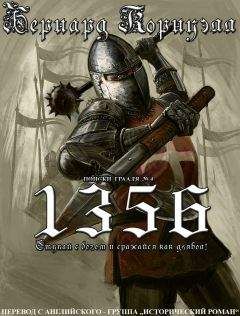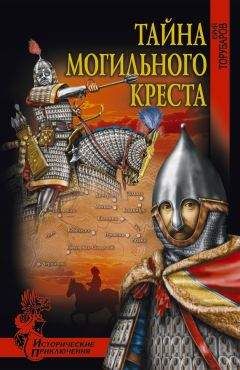— Он — «ун калад».
— «Ун калад»? — без интереса переспросил граф, пробежав равнодушным взором серо-голубые перья и бледно-полосатую грудку птицы, — Не старовата ли птаха для «ун калад»?
— Не верите?
— Я прожил восемь десятков лет, — слабо усмехнулся граф, — Веры у меня всяко больше сейчас, чем времени.
— Нам времени хватит, — сухо сказал священник.
Латники застыли у лестницы двумя безмолвными истуканами. Ястреб забеспокоился, и священник утихомирил его щелчком пальцев.
— Вас соборовали?
— Отец Жак как раз собирался.
— Я сделаю это за него, — произнёс священник.
— Вы? А кто вы?
— Я приехал из Авиньона.
— От папы?[3]
— От кого же ещё?
Священник прошёлся по залу. Высокий, с чертами лица резкими, но правильными. Риза пошита хорошим портным. Посетитель поднял руку, трогая распятие на стене, и граф заметил, что подкладка у рясы из красного шёлка. Старик немало повидал на своём веку духовных лиц подобного рода — целеустремлённых и честолюбивых. Умные, рождённые в богатстве, они шли в священники не для того, чтобы отпускать грехи беднякам, а для того, чтобы вприпрыжку взбегать по ступеням церковной иерархии к высшим почестям и большему богатству. Священник повернулся и посмотрел на графа сузившимися зелёными глазами:
— Итак, где «Ла Малис»?
— «Ла Малис»? — удивился старик.
Священник поверил бы в искренность изумления графа, если бы не предварившая ответ лёгкая заминка.
— Где «Ла Малис»? — граф молчал, и священник добавил в голос металла, — Его Святейшество папа желает знать, где она, отвечайте!
— Кабы знал, ответил, — прошелестел старик.
Полено треснуло в камине, рассыпав ворох искр.
Священник покусал губу:
— Братья доминиканцы, как ни прискорбно, всегда охотно разносили заразу всевозможных еретических заблуждений…
— Избави, Господи…
— Вы не прислушивались последнее время к их болтовне?
Граф качнул головой:
— Не имел обыкновения.
— Напрасно, — священник достал из подвешенного к поясу кошеля клочок пергамента и громко прочёл, — «На владевших ею семерых проклятье и вина, ведь лишь владыку всех владык благословит она».
— Одно из еретических заблуждений?
— Убогие вирши, которыми чёрные монахи будоражат Францию. Да что там Францию? Европу! Есть только один владыка всех владык земных — Его Святейшество папа. Если «Ла Малис» существует, ваш христианский долг сообщить мне, где она. Она должна быть передана матери-церкви. Тот, кто думает иначе — еретик.
— Я — не еретик.
— Одним из «семерых» был ваш отец. Одним из семерых «тёмных паладинов», так их, кажется, ещё называли?
— Грехи моего отца — это его грехи. Мне и моих довольно.
— Рассказывают, что «тёмные паладины» владели «Ла Малис»…
— Какой только чуши не рассказывают о «тёмных паладинах».
— «Тёмные паладины» скрыли сокровища нечестивцев, смевших звать себя «чистыми», после того, как поганую ересь выжгли калёным железом.[4]
— Слыхал такое.
Священник мягко погладил ястреба по перьям:
— «Ла Малис» долгие годы считалась утерянной. Доминиканцы же болтают, что её можно отыскать. Я склонен им верить. Можно отыскать и нужно. «Ла Малис» принадлежит церкви, с её помощью церковь может построить Царство Божие на земле, почему же вы отказываетесь помочь церкви?
— Я не отказываюсь помочь, я просто не могу.
Священник сел на кровать и наклонился к графу:
— Где «Ла Малис»?
— Не знаю, говорю же. Не знаю!
— Не лги, старик. Ты умираешь, не оскверняй своей души ложью на пороге вечности.
— Клянусь Богом, не знаю!
Граф говорил правду. Он не знал, где сейчас находится «Ла Малис». Он знал, где она лежала полторы сотни лет и, боясь, что туда доберутся безбожные англичане, попросил своего друга, монаха по имени Фердинанд, спасти реликвию. По всей видимости, брат Фердинанд его просьбу выполнил. Потому-то старый граф мог с чистой совестью клясться, что понятия не имеет, где сейчас «Ла Малис». Он не лгал, он просто не говорил священнику всей правды, ибо некоторые тайны лучше уносить с собою в могилу.
Священник некоторое время сверлил графа испытующим взором, затем встал, подошёл к столу, снял с ястреба путы и пересадил птицу себе на запястье. Вернувшись к кровати, он пустил ястреба умирающему на грудь. Расшнуровав и сняв колпачок с головы птаха, сказал:
— Этот «калад» особенный. Ему нет дела до пустяков вроде жизни и смерти. Он зрит дальше, предугадывая, попадёшь ты в ад или в рай.
Граф Матаме смотрел на ястреба. «Калады» — вещие птицы, предсказывавшие, пойдёт больной на поправку либо нет. Если «калад» встречался с занедужившим взглядом, тот выздоравливал, если нет — умирал.
— Птица умеет заглядывать за грань? — подивился старик.
— Смотри на него и отвечай, — скомандовал священник, — Ведомо ли тебе, где «Ла Малис»?
— Нет.
Ястреб переминался на груди умирающего с лапы на лапу, цепляя когтями старенькое одеяло, и вдруг с невероятной быстротой ударил графа клювом. Старик закричал.
— Тише, тише… — без выражения пробормотал священник.
Ястреб вырвал левый глаз, оставив перемешанную с кровью желеобразную массу стекать по небритой щеке графа. Умирающий выл. Священник убрал птицу:
— «Калад» считает, что ты врёшь. Хочешь сохранить второе око, говори правду. Где «Ла Малис»?
— Я не знаю! — простонал изувеченный.
Священник помолчал. Трещал огонь в камине, дым ел глаза.
— Ты врёшь. «Калад» не ошибается. Ты врёшь, хотя вот-вот предстанешь перед Господом. Плюёшь в лицо Создателю.
— Я… не… плюю…
— Где «Ла Малис»?
— От-ткуда мне з-знать?
— Ты Планшар, а все Планшары — еретики!
— Нет! — выкрикнул граф, — Кто ты? Кто ты такой?
— Для тебя я отец Калад, ибо в моей власти отправить тебя в ад либо в рай.
— Причасти меня!
— Я скорее причащу дьявола, — холодно ответствовал назвавшийся отцом Каладом.
Час спустя граф был слеп на оба глаза и без сознания, а священник убедился в том, что тот действительно не ведает местонахождения «Ла Малис». Кожаный колпачок вернулся на голову птицы, а сам ястреб — на руку отца Калада. Священник кивнул на старика одному из латников:
— К хозяину его.
— К хозяину? — не понял тот.
— К сатане.
— Ради всего святого… — простонал очнувшийся граф.
Латник сел на него верхом и прижал к окровавленному лицу подушку, набитую комьями овечьей шерсти. Дёргался граф гораздо дольше, чем можно было бы ожидать от человека его возраста.