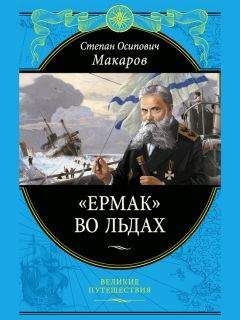Я сидел в заведении, куда привез меня джени, полупьяный, с маленькой, похожей на ребенка японкой.
Я учил ее матерно ругаться по-русски. Она повторяла. Выходило у нее ужасно нелепо и смешно, так как по содержанию брани на нее падала роль мужчины. Я хохотал. Она сжимала кулачок и, смеясь, пыталась меня ударить. Я ловил ее кулачок и запихивал себе в рот до самой кисти.
Неслышно, как тень, ко мне скользнул мой джени.
— Капитана, — торопливо зашептал он, — моя тибя вези скоро, скоро… Твоя кради буди…
Я потребовал, чтоб он сказал по-китайски. Оказалось, он пронюхал откуда-то — о, эти джени, кажется, они все разнюхают! — что меня хотят «украсть» и что уж приготовлен зеленый закрытый автомобиль.
Я не понял, кто именно хочет меня «украсть». Но сам я несколько раз «воровал» людей по заданиям Воробьева. Это страшно просто: приходишь под видом правительственного лица, вежливо зовешь для сверки паспорта, а в закрытом авто наставляешь дуло браунинга и говоришь:
— Вы, конечно, понимаете, что выстрел и звук газующей машины различить невозможно. — Вот и все.
Я быстро скрылся. Джени повез меня галопом. Я видел: когда мы сворачивали из переулка, к заведению подъехал закрытый зеленый авто.
Джени отвез меня к Андрею-Фиалке и не хотел брать денег.
— Твоя, капитана, шибыко хоросо. Шанго шибыко, твоя русски шанго.
Я говорю ему озорно:
— Я самый настоящий русский, большевик.
— Большевик? Капитана, моя зовут Люи Сан-фан, тибе шибыко шанго, капитана.
Люи Сан-фан в переводе на русский язык означает «большое душистое дерево». Я называю его по-своему:
— Вонючая Стоеросовая Дубина, я такой аграмаднейший большевик. Понял, Дубина Стоеросовая Вонючая?
Он ухмыляется и делает вид, что поверил мне.
— Хе-хе, — смеется он.
— Хочешь поехать со мной в Россию? — спрашиваю я.
Он по-прежнему ухмыляется и так же смеется:
— Хе-хе…
Андрей-Фиалка ожил. Радует ли его нажива, или же страшная душа его тоскует о вишневых садах, ради которых он всегда готов идти куда угодно и чего-то искать. Его страшно забавляет то обстоятельство, что мы поедем под видом красноармейского отряда по китайскому Трехречью. Для этого мы будем двигаться с русской стороны и представлять «большевистский» отряд, «нагло ворвавшийся на чужую территорию», грабить и жечь мирное население, то есть учинять те самые «большевистские зверства», о которых будут кричать газеты всего мира: вот, дескать, какова практика большевистской проповеди о том, чтоб перековать мечи на плуги и учинить на земле мир.
Потом в Трехречье мы должны «сгинуть», под абсолютным секретом уйти на восток и уж здесь перейти границу.
Вчера я согласовал с Воробьевым проект структуры отряда. Не потому, конечно, что от меня этого требовали, а потому, что самому мне хотелось щегольнуть своим «военным талантом». Сто человек я разбил на двадцать пятерок. Каждая пятерка знает только свою обязанность: пятерка кашеваров, пятерка коноводов, пятерка поджигателей и т. д.
В отряде будет четыре томсона, четыре этих окаянных ручных пулемета, выпускающих по 875 кольтовских пуль в минуту.
Пулеметы будут: у меня, у Андрея, у дяди Паши Алаверды, на четвертый я отыщу тоже «абсолютно верного». Наверно, Артемия. В случае бунта мы в одну минуту уничтожим весь отряд.
Сегодня я работаю над картой. На столе у меня, справа, — молоко, сыр, масло и бутылка с коньяком. Я выпиваю коньяк с молоком и без хлеба ем сыр, густо намазанный маслом. Это мой «божественный нектар». Ничто так сильно не возбуждает мой мозг, как эта странная смесь.
На дворе у нас стоит грузовик, присланный специально для того, чтобы своей газовкой глушить учебную стрельбу из томсонов.
Цыган стреляет с поразительной меткостью. Он еще ничего не знает о рейде, но готовиться ему велел Андрей. Они приходят ко мне. Цыган приносит мишень. Мишень у него разбита в щепки и похожа на лучистую звезду.
— Вот машинка, вот машинка! — восторженно кричит он.
Андрей-Фиалка сконфужен: он стреляет из рук вон скверно.
Он садится закурить, но внезапно мрачнеет, не закурив, снова поднимается, подходит к сундучку и вынимает оттуда свой «гвоздик» — так он называет прямой германский тесак.
Дядя Паша Алаверды мгновенно бледнеет: роняет раздробленную мишень и вылетает вон из комнаты.
Андрей-Фиалка мрачно смотрит ему вслед и через минуту мычит:
— А и дура-мама. А и дура.
Вернулся Артемий. Я его посылал «пошукать». Он переходил границу и теперь докладывает:
— Кони, я прямо скажу, отменные. Селезни, прямо скажу, а не кони. У Монголии скупают, и все под казенным тавром.
Он приехал с женой. Здесь она держится со мной робко. Кажется, будто ей не верится, что это она была там, у себя дома, так близка со мной и ластилась ко мне в своей наглой страсти.
Артемий отвечает мне:
— Охрана?.. Что — охрана? Охрана, она и есть охрана. Я прямо скажу: хреновая охрана.
Она очень низко и покорно кланяется и вторит ему торопливым шепотом:
— Никакой охраны… никакой… — Ей хочется сказать больше, но она робеет и умолкает.
Здесь, в городе, она какая-то жалкая и холодная. Я хочу узнать, не была ли и она уж с Артемием, но вспоминаю о кутеже с ней. Мне становится противно от того, что в пьяном буйстве ласкал ее, кусал ее горячее, до липкого влажное тело, и она с тихим стоном покорно переносила это и ждала.
Я отхожу к столу и говорю:
— Хорошо, Артемий, готовься. — Потом нагибаюсь над «Правдой» и синим карандашом обвожу сообщение о беспорядках на Китайско-Восточной железной дороге.
Оба бесшумно уходят. Я слышу, как они шепчутся за дверью. Меня раздражает их шепот, а главное то, что они так долго не уходят.
Потом полураскрылась дверь, и Артемий спросил:
— Ходок прикажете или верхами?
— Ходок! — почти кричу я, не глядя на него, и опять бесцельно обвожу вдоль синей черты новую, красную.
— Ходок, ходок! Я прямо скажу — ходок обстоятельней.
Когда он закрывал двери, я поднял голову. Через плечо Артемия смотрела Маринка. Взглядом благодарила меня. Я понял, что Артемий не хотел ехать на полке, но настояла она и теперь увяжется с нами.
Нервничая, я в третий раз очерчиваю в «Правде» заметку о беспорядках на «К.В.Ж.Д.»
Сегодня и в наших газетах — а впрочем, где мои газеты: там, в России, или здесь? — появились заметки о большевистских бесчинствах на «К.В.Ж.Д.».
Кому же верит читатель? «Правде» или нашим газетам? Сообщения в «Правде» носят характер спокойной уверенности. Наши газеты выдают себя чрезмерным криком «караул».