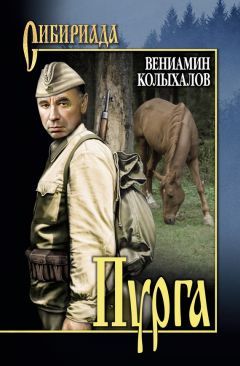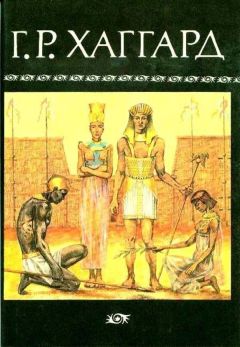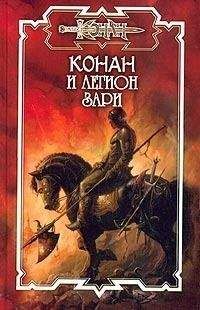Заводила и драчун Гошка, прищурив правый синеватый глаз, устыдил полоумку:
— Фрось, имей совесть! Ты лучше голову мою в сумку брось, а стаканчик вертай.
Заполучив его, вырвал из бутыли тряпичную пробку, наплескал через край. Шумно выдохнул еще вчерашний перегар. Прежде чем поднести к полным красным губам, проорал на весь честной народ:
— Дай бог не последнюю, но последнюю — не дай бог…
В одной кучке собравшихся слышались глубокие вздохи. В другой с визгливым подвывом плакали. В третьей кто-то густым басом напоминал:
— Дарья, яму перед засыпкой картошки хорошенько просуши.
Наособицу сидели в сторонке на сосновой коряге большебродские староверы. Обменивались изредка друг с другом тихими скупыми словами. У одного раскосого мужика спадала с лица такая роскошная кудель, что, казалось, под эту ухоженную бородищу можно спрятать петуха. Другой, пониже ростом, изредка запускал в свою кудрявую смоль широкую пятерню, чесал подбородок, пропуская волосы сквозь землистые скрюченные пальцы. Самый молодой смуглолицый парень пришивал суровой ниткой пуговицу к поношенной телогрейке. Пришив, снял серую смятую кепку, воткнул иголку сверху, у основания козырька, старательно намотал на нее восьмеркой остаток нитки.
Лесные люди с Пельсы сидели так, что дым мужицких самокруток относило ветерком в сторону. Изрядно захмелевший Гошка Чеботарев подошел к ним с узкогорлой полуведерной бутылью своегоночки. Расплылся в улыбке, желая согнать угрюмость с бородачей. Их непроницаемые лица оставались насупленными и отчужденными.
— Ну-кась, деды! Опрокиньте по граненому за отплытие и за Христа.
Никто не протянул руки. Августовское солнце, вставшее высоко над яром, сияло в крепкой влаге: дробились, отражались ломкие яркие лучи.
— Эх вы, таежные затворники! — В голосе Гошки слышалась затаенная обида. — За землю ведь пьем свою. Может, последний нонешний денечек берега эти видите… Ничего, раскольнички, война вас расколет не так…
— Иди, бритоус, иди. Гуляй с мирянами.
— Я ведь серп прихватил. Бороды ваши чиркну на барже. Хотя хрен с ними! Пусть растут. Все, глядишь, осколок какой-нибудь в них запутается.
Дымя самокруткой, подошел к виночерпию Никита, протянул миролюбиво руку.
— Гош, прости меня за все… за драки, за удар тот паскудный…
— О чем речь?! Кто старое помянет… Клюкнешь?
— Я ему клюкну! — Басалаев отдернул сына. — Затыкай пасть бутыли! До Томска в парах винных плавать будешь.
Председатель колхоза, не взятый с первым набором, выделил большебродскому воинству флягу молока, полмешка свежеиспеченного хлеба. Наварили баранины, картошки. Ешьте на здоровье, мужички, пока на фронтовой харч не перешли. Припасы подвезли на телеге. Пурга давно улавливала чуткими ноздрями дразнящий хлебный дух. Хотя он перемешался с запахами табака-самосада, потных рубах, браги и свежих огурцов, слепая выделила из всего этого смешения теплые пахучие струйки, идущие от мешка.
Гошка успел перецеловаться с родней, с Захаром, Никитой, Фросюшкой. Облобызал Пургу, напуганную хмельным обхождением. Дав ей понюхать нутро липкого пропахшего самогонкой стаканчика, совал кобыле картофельную шаньгу. У него отобрали бутыль. Еле-еле завели по трапу. Неожиданно протрезвев, встав в воинскую позу, удало прокричал:
— Гвардия, загру-жайсь!
Разом смолкли гармошки, голоса. Оборвалась балалаечная звень. Призывно пылал на крутобокой барже прибитый самоковочными гвоздями лозунг: НА ФРОНТ ЗА ПОБЕДОЙ! Над шкиперской каюткой пошевеливался на слабом ветру отутюженный флаг.
Поредела толпа на берегу. Жались к плачущим матерям встревоженные ребятишки, уткнув в подола черные, русые, каштановые головенки. Возле Августины Басалаевой стояли крепенькие сыновья. Младший Олег вцепился в плечо Никиты, который рассеянно слушал наставления отца:
— Сенокосилку в зиму еще раз смажь… правый полоз у саней замени… Чеботаревы литр дегтю должны — взять не забудь…
— Ладно, ладно, — бормотал Никита, не сводя глаз с яркого лозунга на барже. Раскосый старовер, подойдя к воде, закрыл кудлатой головой две лозунговые буквы в слове «победой». Получилось: на фронт за бедой! Вот это новое прочтение мобилизующего призыва сделало Никиту насупленным и рассеянным. Олег боялся, что вслед за отцом поднимется сейчас и старший братец. Он надежно припечатал руку к его тугому плечу.
За все время горьких проводин Августина не выронила из глаз ни слезинки. Остылыми неподвижными пятнышками смотрела на лоб, на губы Дементия, отвечая невпопад на его вопросы. Слезы кипели где-то внутри, не выплескиваясь на затуманенные страданием глаза.
Ксения поправляла на муже воротничок рубашки навыпуск, разглаживала пальцем складку на груди.
— Хватит меня ощипывать… неудобно… — Яков на полшага отошел от жены.
— Яшенька… милый… Дай хоть последний разочек полюбуюсь на тебя.
— Не хорони, голубушка, рано.
— Не о тебе речь. Чую — недолгая я жилица на земле. Грудя ломит… кашель душеньку вытряс…
— Слышь, Захар? Теперь тебе ответ за мать держать. Ни волосинки с ее головы не срони. Я во сне вас навещать буду… Не горюй, Ксенюшка. Отпугнем как-нибудь смерть. Когда невтерпеж будет душе, ты слезами ей подмогни…
Дочурки уцепились зубами в отцовские штаны у карманов. Он приподнял их за талии, передал Платону.
— Об одном прошу тебя, отец, доживи до моего возвращения… прощайте… не поминайте лихом…
Захар и Васек занесли на буксирницу флягу с молоком, шуршащие в мешке караваи, уложенную в двух ведрах отварную баранину с картошкой. Яков медвежьей хваткой обнял сына, отстранил от себя, стукнул ладошкой по плечу. Пристально посмотрел на Захара, Ваську.
— Колхоз берегите! Без него нам воевать будет плохо.
Убрали трап. Катерок распрямил гибкий трос, сдернул с песчаного закоска просмоленную посудину. Лениво, неохотно потащилась она вниз по Васюгану к обской воде. Вровень с баржей двинулись по берегу матери, жены, сестры и братья отъезжающих защитников. Семенила по песку босоногая ребятня, поддерживая штанишки, почесывая шелушащиеся от цыпок руки и ноги, обсасывая янтарные леденцы.
Шумливый леспромхозовский катерок почти заглушал рыдания и стоны. На истоптанной пристани осталась растерянная Фросюшка, беспрестанно совершая частые поясные поклоны. Вокруг нее проворно сновали собаки, подбирая огрызки пирогов и шанег, обнюхивая яичную скорлупу и конфетные обертки. Шустрая крутохвостая лайка засунула голову в лежащую на песке суму, вытащила оттуда желтоватый кусок сала. Фросюшка не бросилась спасать свое богатство, продолжая с усердным подобострастием исполнять ритуал необычного прощания.