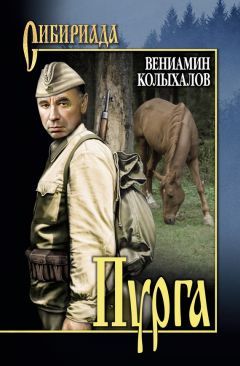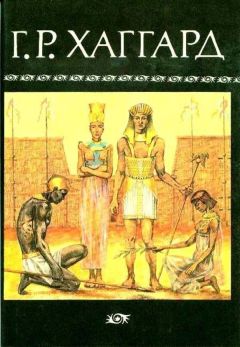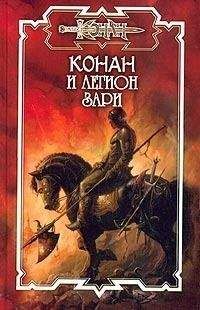Староверы и на барже держались особняком. Когда поползли берега их оставленной родины, матеробородый зверовщик и смолокур первый благоговейно снял помятую шляпу, сотворил подобающий вере размашистый крест. За ним, словно по команде, сняли головные уборы другие молчуны. Принялись молиться двуперстием далекому урману, затушеванному дымчатой пеленой.
У обрезной черты отвесного яра стоял Платон в окружении дряхлых дедов и старух. Последние годы настолько иссушили богомольную неотступницу от веры Серафиму, что казалось — дотронься пальцами до ее складчатой пергаментной кожи, и она зашуршит. Дрожание костлявых рук передавалось посоху, отчего слегка заостренный конец углублялся в береговую дернину. Глядя на уплывающую буксирницу, Серафима обескровленными губами шептала напутную молитву.
Выехав по крутому подъему на берег, Захар остановил Пургу. Неподалеку извивалась тропа, заросшая муравой, подорожником и одуванчиками. С высоты птичьего полета баржонка и катерок на чистом плесе реки показались парню игрушечными, сиротливыми. Нельзя уже было различить ни лозунга, ни флага, ни помпы для откачки трюмной воды. Тащились по темной равнине два речных существа. Каждый оборот винта увлекал их к просторам большой земли.
Глядя на васюганскую излуку, председатель колхоза Тютюнников представил сейчас, как по многим рекам и речонкам нарымского вольноземелья тянутся и тянутся к Оби, к районным центрам такие вот деревянные суденышки — баржи, подчалки, паузки, неводники. Обь — сибирский выносливый коренник — имеет много пристяжных помощниц. Они сообща вынесут к крупным поселениям нарымских ратников, которых кликнула встревоженная бедой Москва. Стекаются защитники земли русской по Васюгану, Парабели, Тыму, Кети. Воды Томи, Чулыма, Иртыша дружелюбно предоставили гладкие дороги будущим бойцам. Заметно поредели, обессилели трудовые армии. Зато полнятся, крепнут боевые соединения. По стальным и водным путям, по проселочным, лесным, полевым дорогам стекаются к первопрестольной силы добра, чтобы одолеть, изгнать за пределы Отчизны силы нахлынувшего зла. Василий Сергеевич углубился в ненастные мысли. Вновь посмотрев на изломистый плес реки, не увидел ни катера, ни буксирницы, точно Васюган постарался упрятать их в мутной пучине. Только пулеметный треск мотора, прилетающий из-за крутого поворота, напомнил о реальности недавних проводин на войну.
Варя помогла бабушке Серафиме сесть на телегу. Старуха достала из отвислого кармана кофты берестяную табакерку. Понюшки делала маленькие, но частые. Ее чиханье походило на громкое всхлипывание. Устья широких ноздрей, просушенные табачной пыльцой, были желты и покрыты мелкими трещинками.
— Вот, сыночек, и тебя войнуха обобрала, — глухим, горловым голосом произнесла Серафима, когда сын пошел рядом с телегой, положив руку на гладкую березовую грядицу. — Подсекла тебя, Васенька, войнуха. Шибко подсекла. С кем остался? Девки-верещалки да парни-драчуны. Невелика подсоба.
— Не кручинься, мать. Трава зеленая — молочко белое. Смотри — чем не помощники — дочка, Захар, сын, Никита. Беда взрослит быстро. Не успеешь оглянуться — ребятня подтянется. Не оставим земельку без пахаря. В колхозе четырнадцать быков, тридцать шесть лошадей. А женщин, мать, забыла? У них всегда каждая жила земле служила. Пашня хорошо умеет бабу изнурять. Помнишь, за плугом ходила — отцу не уступала?
— Да-а, не давала мерзнуть лемеху. И ты, сыночек, раненько за ручки плужные взялся. Ученическую ручку позже держать научился. Пашу, тебя к плугу приручаю. Тятя твой, царство ему небесное, как вернулся с Манжурии, сердцем мучиться стал. Пашет-пашет, упадет в борозду и рот настежь. Гонит в себя рукой воздух, пока лицо не сбросит опеночный цвет… Последний год отишь его взяла. Обронит за день два-три слова и все. Заберется на русскую печку, долго уснуть не может. Постонать захочет — дохой накрывается. Лягу, бывало, к нему, подстанываю. Говорю: «Лучинушка ты моя, кого стесняешься? Если стон сердце облегчает — стони, не задыхайся под овчиной».
Василий Сергеевич вспоминает исхудалого перед смертью отца, глубоко лежащие в желтых впадинах, словно омелевшие озеринки, серые глаза. Умер под вечер. Вязал крупноячейную сеть, ойкнул, иглицу выронил из руки… и все… Одна доска узкого соснового гроба имела сучок. По дороге на кладбище он выпал. Никто не заметил когда и где. Пугающее темное дупло долго стояло перед глазами сына.
Пурга остановилась возле председательской избы. Серафима слезла с телеги, осуждающе посмотрела в глаза Вари.
— Достукались, молодые безбожники. Без мужской подсобы остались. Давайте тяните колхоз.
— Потянем, — высказал уверенность Захар. — Иисус колхозу нашему никогда не подсоблял. Ни одного трудодня не выработал.
— Не хулите имя Христа. Ты, Захарка, через безбожие отца родного чуть в тюрьме не оставил.
— Не меня за это винить надо — Басалаева-антихриста.
Сраженная хлестким доводом старуха замолчала, насупилась. Дрожащей рукой полезла в карман полинялой кофты за табакеркой.
Тютюнников собрал молодежь в конторе. Покрытый грубым зеленым сукном председательский стол находился у окна небольшой комнаты. Здесь помещались также столы счетовода и ветеринарного врача. С широкого простенка пытливо и зорко смотрел на всех черноусый Сталин. Портрет, слегка наклоненный от чисто побеленной стены, был в голубой рамке под стеклом. Человек с него словно заглядывал из-за председателя на прожженное в нескольких местах сукно стола, стопку деловых бумаг и отполированные пальцами деревянные бегунки на счетах.
Укорный, вопрошающий взгляд требовал ответа: почему большебродский колхоз дает мало хлеба? Отчего то льны не уродятся, то турнепс? Не однажды звучал в председателе внутренний голос оправдания: «Что поделаешь, товарищ Сталин?! Таков наш метельный нарымский край. Многим рискуют крестьяне, бросая по весне в плужную землю семена. Сами находились в тутошней ссылке, знаете наши погоды. Нарым для земледельца — зона риска. Не заморозки наше сеево побьют, так головня доймет, зерно в труху превратит…»
Даже такие немые диалоги настраивали Тютюнникова по-боевому. Заставляли мобилизовывать волю, силу колхозников. От постоянного недосыпания часто опускались на красные глаза тяжелые веки. Стискивая зубы, Василий Сергеевич научился подавлять зевоту. Чтобы прогнать сонливое состояние, выливал себе на голову ведро ледяной воды.
Парни и девчата сидели на широких некрашеных лавках, расставленных вдоль стен. С лиц еще не сошла печаль от недавнего расставания с уехавшими на фронт. Каждый думал об удвоенной, утроенной нагрузке, которая ляжет теперь тяжелым бременем на плечи оставленных в тылу.