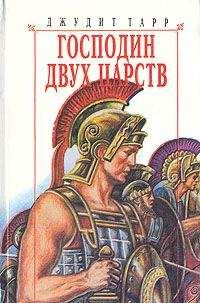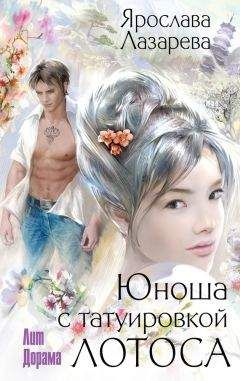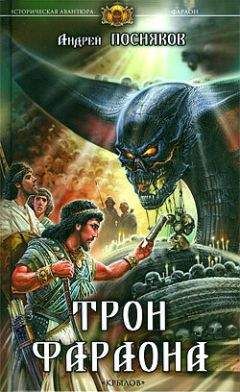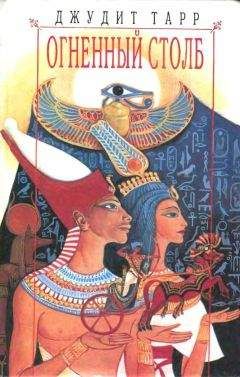— Их место на корабле, — согласилась Мериамон. Ее кобыла упрямилась, не желая идти так медленно. Когда они выйдут на открытое пространство, Мериамон позволит ей пробежаться. Другие сделают то же. Александр, наверное, будет коротать время на марше своим любимым способом: догнать колесницу, проехаться в ней, потом выпрыгнуть и вскочить на коня, догнав его.
Нико снова ехал на том же большом мерине, избегая встречаться взглядом с Мериамон. Ясно было, что он не пойдет пешком, пока кто-то едет.
Поскольку в обморок он, как видно, падать не собирался, Мериамон решила не возражать.
Она оглянулась. Сидон не был ее родным городом, но он приютил ее на время. И Эшмун дал ей возможность побеседовать с царем. Она вознесла богу благодарственную молитву. Эшмун не исцелил ее от того, что ее мучило, но это было под силу только стране Кемет.
Мериамон смотрела вперед, на юг, и ветер дул в спину. На юг, в Египет.
Через час после выхода из Сидона кавалерия Александра превратилась в пехоту. Коней разнуздали, и колонна пошла пешим порядком. В полдня пути от Сидона небо покрыли тучи, а к вечеру пошел дождь. Ветер подгонял идущих, снежная крупа секла их. Люди завернули оружие в кожи, сами закутались в плащи и продолжали путь. Кони опустили головы, поджали хвосты. Мериамон, в двух шерстяных плащах и одном кожаном, чувствовала себя такой жалкой, как никогда в жизни. Холод, сырость, ветер лишили ее тело последних крупиц тепла. Она не могла удержать дрожь.
Вечером в лагере был шатер и огонь в очаге, заботливо поддерживаемый слугами. Он немного согрел воздух, но Мериамон не могла согреться.
Она мало спала, ее била дрожь. Ей снились те же сны, но она была им даже рада, потому что в снах было тепло. Она проснулась — и снова холод, сырость и бесконечный дождь. Ей принесли еду, но она почти ничего не съела; ее мутило. Она нашла свою лошадь — надо было бы дать ей имя, ведь имена — это все, но сейчас не было сил, был только холод. Она забралась на лошадь и ехала. Кругом был только дождь и ветер. Она не чувствовала ни рук, ни ног.
Тепло. Где-то было тепло. Она поплыла. Нет, это кружилась голова. Тело осталось где-то там, бедное, ничтожное, тяжелое, со льдом в костях.
— Мариамне!
Имя? Но это не ее имя!
— Мариамне!
Еще раз. Другой голос. Торопливый. Сердитый?
— Мариамне!
Повторенное трижды имеет власть. Но не над Мериамон. Она засмеялась. Кругом грохотало. Никаких слов. Никакого имени. Только ветер, и дождь, и холод, но ей было так тепло, так хорошо, так легко…
— Проклятие, это свыше ее сил!
Слова. Такие громкие, пронизывающе-резкие.
— Началась лихорадка. — Говорит кто-то другой, тише, спокойнее. — Она или умрет, или выкарабкается. Одно из двух. Решать будут боги.
— Боги? — Короткий, горький смешок. — Ты еще веришь в них?
— Я верю, что в мире есть много такого, чего мне не понять.
— Царь верит каждому их слову. Он принесет меня в жертву любому из них, если она умрет.
— Почему? Что ты мог сделать? Ты же страж, а не врач.
— Это я виноват, что она заболела.
Тихий голос зазвенел насмешливо:
— Да, конечно, ты мог бы остановить ее. Или ты приказал бы дождю прекратиться и ветру утихнуть?
— Я мог бы заставить ее поехать в фургоне вместе с персидскими женщинами. Они бы не возражали. Они ее любят.
— Наверное, — сказал другой голос. Женский.
— Наверное, об этом еще стоит подумать, — сказал мужчина. — Их шатры теплее; там все эти ковры, подстилки — и там спокойнее. За ней там будет хороший уход.
— Лучше, чем здесь?
Таис. Это говорит Таис. И Нико, рычит, злой, испуганный.
Ничего удивительного, если он искренне верит, что Александр сурово накажет его за ее болезнь. Он продолжал:
— Она больная слишком серьезно, чтобы я мог за ней ухаживать как надо. Тебе тоже не справиться. И лазаретный фургон не место для больной женщины.
Они помолчали. Затем Таис сказала:
— Я попрошу Барсину.
— Но… — начал Нико. Тишина. Порыв холодного ветра.
— Дождь немного стих. Я могу пойти. Филинна! Пойдем со мной.
Холодный поток прекратился, и Мериамон охватило тепло. Она открыла глаза, с трудом подняв тяжелые веки.
Сумрак. Мигание лампы. Огромная тень двигалась по стене. Это не была ее тень. Ее тень ушла. Ушла…
Нико подхватил и уложил ее. Она сопротивлялась.
— Моя тень! — кричала она ему. — Моя тень! Я не могу…
Он явно ничего не понимал, а она ничего не могла ему втолковать.
Не по-египетски.
Она вспомнила греческие слова, с трудом, запинаясь, произнесла:
— Я не могу найти свою тень.
— Она прямо позади тебя.
Она пыталась вырваться из его рук. Он укачивал ее, как ребенка. Для него она и была не больше ребенка.
— Это не моя тень. Моя тень!
— Она здесь, — сказал он. Он ничего не понимал. — Она здесь. Успокойся, отдохни.
— Это не… — Она замолчала. Он ведь не знает. Мериамон сжала губы и легла, пытаясь отдышаться. В легких ее было мало воздуха.
— Я больна, — сказала она и замолчала. Ей это совсем не нравилось.
— Ты больна. — Нико продолжал удерживать ее. Он ее даже укачивал. Его лицо был совсем не так ласково, как его рука, на сгибе которой она лежала. Он выглядел рассерженным.
— Давно?
Он всмотрелся в нее.
— Ты не бредишь?
— Немного. Скажи мне, давно?
— Со вчерашнего дня.
— Со вчерашнего… — Ее голова склонилась на его грудь. — Два дня. И — две ночи?
— Только одна.
У нее вырвался стон:
— О боги, моя тень!
— Тише, — сказал Нико.
Она молчала. Ее тень ушла. Ей нечего было послать в погоню, потому что в ней ничего не осталось: ни силы, ни власти. Болезнь опустошила ее.
Немного погодя Мериамон вспомнила другое слово:
— Сехмет?
— Она здесь.
Мягкая лапка, острые коготки, вопросительное мурлыканье.
— Сехмет, — сказала Мериамон. Легкая кошка скользнула на колени Нико, где лежала Мериамон. У нее не было сил взять кошку. Сехмет терлась о подбородок Мериамон и мурлыкала.
Нико улыбался, но, заметив взгляд Мериамон, сразу принял свой обычный суровый вид.
— Ты на самом деле пришла в себя.
— Немного. — Мериамон вздохнула, закашлялась. Он напрягся, его рука сжала ее до боли. — Осторожнее, — сказала она.
Нико перестал удерживать ее, но и не уложил, а просто сидел на ее постели. Он выглядел усталым, как будто уже давно недосыпал.
— Мне бы надо взглянуть на твою руку, — сказала она.
— Не надо, — ответил он. — Филиппос смотрел вчера, после того, как ты упала в обморок. Он сказал, что все прекрасно заживает.