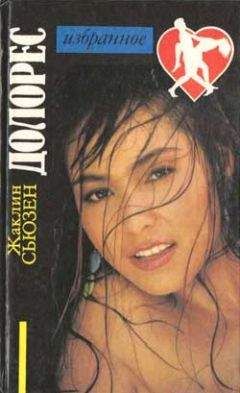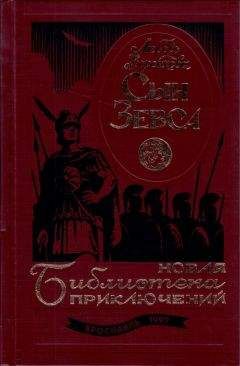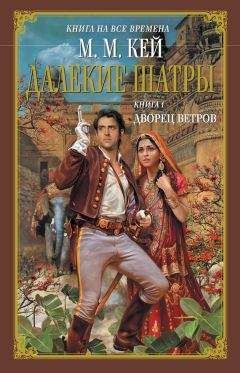— А по мне, так в самый раз, — возражал Николай. — Колорит таежного человека, истинного сибиряка. Ты, отец, ее не слушай, всех бы подстригли под свою женскую гребенку.
— Ты бы, сынок, к нам в Ануфриево съездил, дак подивился бы. Один Воробей чего стоит, — вставил свое Данила.
— Кто-кто? Воробей, говоришь?.. — Николай засмеялся. — Надо ж, Воробей… И что он?
— Воробьев Иван Евсеевич, — спокойно поправился старший Белов. — Старейший в нашей округе промысловик, охотник. Тайгу знат — дай бог каждому. В войну был оставлен на брони, потому как нада ж было кому-то и зверя бить, фронт кормить. И бил он их днем и ночью, три ордена Трудового Красного Знамени заработал. И счас на свои трудовые живет. Правда…
— Что — правда?
— Одинокий он, сирый, неприбранный…
— Ты, отец, вроде как с жалостью к нему, и это хорошо. Но ведь и сам столько лет жил один. Тебя-то кто-нибудь пожалел?
— Я, паря, в ничьей жалости не нуждался и теперь не нуждаюсь. Кадачеловек при деле и занят им круглые сутки, то и жаловаться недосуг.
— Ты, отец, прости меня. Я это от радости плету всякую несуразицу.
— Вот то-то и оно, как говаривает мой брат, а твой родный дядька Степан Афанасьич. За словами, сынок, завсегда гляди…
— Так-так его, Данилушка, ишь, разболтался сыночек-то. Соберутся в своем художественном Союзе, толкуют обо всем, всему оценку дают, а простой жизни и не знают, — присоединилась к ним Евдокия. — Хромовые сапоги твои им, видишь ли, не нравятся. А я б за этими сапогами на край света пошла…
— На край света не нада, а вот на выселки я тебя заберу.
— А ведь хороши сапоги-то, — стояла тут же, наблюдая за происходящим, невестка. — Я только сейчас поняла, что вам, Данила Афанасьевич, туфли что корове седло, простите за сравнение. И костюм на вас — просто загляденье. Сейчас такую материю не выпускают. Качество просто отменное — шик, одним словом.
— А в нем, Людмилочка, все ладно и крепко. И на фронте он был в числе самых первых. Геройский парень. Я им всегда втайне гордилась и поначалу очень смущалась тем, что внимание свое обратил именно на меня, хотя были там среди нас, медицинских сестер, гораздо более видные из себя женщины. А что я? Восемнадцать годков. Тоненькая. Косички в разные стороны…
— За косички я тебя и отметил, — то ли пошутил, то ли сказал всерьез. — Всяких видел, да ни на кого не хотел глядеть, кроме тебя.
— Ну уж… — засмущалась Евдокия. — Ой, на кухню пойду, ведь кормить вас всех надо…
Людмила пошла за свекровью, дети к тому времени уже были во дворе. Отец с сыном остались наедине.
— О тебе мама много рассказывала, да так зримо и живо, что я безотцовщины и не чувствовал.
«Ишь, ма-ма… С добром о матери…» — отметил про себя Данила.
Сын продолжал:
— Надо же, я таким тебя и представлял. У меня даже портрет твой написан — с карточки. В мастерской он — завтра сходим туда. Покажу свои работы, где есть и Сибирь, Байкал. Но в общем-то я график, иллюстрирую книги. За живописные полотна берусь нечасто. Теперь вот испытываю желание написать твой портрет, чтобы уж повесить в квартире, на стене, на всеобщее обозрение, как главу рода Беловых. Хорошая ведь у нас фамилия: Бе-ло-вы… Я всегда ею гордился. Художник Николай Белов! Хорошо ведь? Сразу виден человек: с каким нутром, какой породы…
— Я-то не глава рода беловского. Я — поменьше калибром. Ануфрий Захарович был за главного, из староверов происходил. А кто до него был, и не знаю.
— Смотри ты… — дивился сын. — Не думал я, не гадал, что род мой такие корни имеет. Мы с тобой, отец, об этом еще подробно поговорим. А сейчас расскажи, где и как жил все последние тридцать лет.
— А неча сказывать. Жил, промышлял белку, соболя, другое зверье. Завалил пару десятков ведмедей да сохачей с полсотни. Может, и поболе того — не считал. Заготавливал лексырье, бил кедровую шишку, обустраивал путик.
— Слова-то какие: «сохачи», «лексырье», «путик»… У нас здесь, в центре России, уверены, что у вас в Сибири медведи по улицам ходят…
— Быват, что и заходят. Тот Воробей, о коем сказывал, лет тридцать назад одного такого завалил — бабу его Раису зверюга задрал.
Евдокия с Людмилой оставили их с сыном наедине намеренно, чтобы поговорили мужчины, и он это хорошо понял. Потому отвечал односложно, стараясь не обидеть, обдумывал, как перейти к его интересовавшему. Ведь будто с неба свалился в жизнь этих близких ему людей, и что остается промеж ними некоторая отчужденность и будет оставаться дальше. Может, изойдет на нет, истончится, а может, наоборот — встанет во весь рост, и тогда уж разойдутся их дороги навсегда. Данила страшился этого «навсегда», впервые в жизни своей страшился чего-то по-настоящему.
Привыкший не искать окольных путей, и на этот раз рубанул напрямик, грубовато:
— Да че обо мне, моя жись без надобности. Все в ней просто и похоже одно на друго: подоспело время, пошел на промысел. Отсоболевал, возвернулся на выселки. Так из года в год. А вот я хочу тебя спросить, сынок: как жилось вам с матерью? Я вить вроде виноват перед вами…
Сын что-то хотел возразить, Данила остановил его рукой, продолжил:
— Я не о матери твоей, с ней мы все обсказали друг дружке. Я о вас с Людмилой и детишками. И зачем я вам такой: ты — на своих ногах, внучата обихожены?.. Вишь, какой нарисовался… Не сотрешь. Наехал ни с того ни с сего — ни отец, ни дед, а так: тьфу — и боле ничего. Но поверь, Коля, я б пешим ходом прибег, кабы знал, что вы есть и ждете меня. Я вить думал, что поезд тот разбомбило и Дуся погибла. Сведения таки были. И ежели б не добрый человек, а может, и сам Господь Бог, никада бы не увидел вас — не услышал, не поверил, не сорвался б из своих таежных глухоманей и не примчался сюды.
— Да не мучайся ты! — твердо вставил младший Белов. Да с такой ноткой в голосе вставил, что Данила не удержался от улыбки, тут же подумав про себя: «Нашего, беловского корня, сынок-то. Добро…»
— Не мучайся! Сейчас нам всем просто надо друг к другу привыкнуть — слишком уж неожиданным был твой приезд. Неожиданным, но жданным. И кто знает, может, в самое время. И поверь: я очень счастлив, что ты нашелся…
Данила не почувствовал, как по щеке его побежала горячая слеза. Не знал, как поднялся с дивана, шагнул к сыну, и они обнялись.
— Вот уже и обнимаются, — услышали они голос вошедшей в комнату Людмилы. — Слышишь, мама, обнимаются отец-то с сыном… А у нас почти все готово.
— Стол соберем в гостиной — нечего на кухне ютиться, — говорила уже свекрови. — Данила Афанасьевич наших тульских пельменей попробует, может, не понравятся. У них, я читала, по-другому лепят.