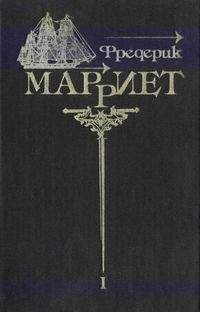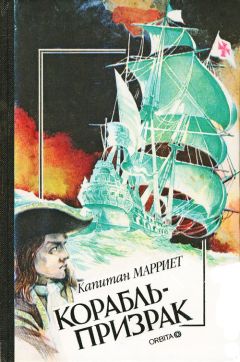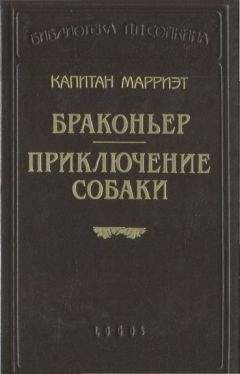В течение первого дня нашего путешествия ничего замечательного не произошло, исключая разве что любопытный разговор между О'Брайеном и одним из французских солдат о сравнительной храбрости обоих народов.
В числе прочих доказательств О'Брайен привел французу то, что соотечественники его не могут устоять против английских штыков не из-за недостатка храбрости, а потому, что слишком корректны. В этот день на стоянке мы пообедали одним черным хлебом, который запивали кислым вином. О'Брайен упросил одного солдата купить нам чего-нибудь поделикатеснее, но офицер, узнав об этом, рассердился и услал солдата в арьергард.
О'Брайен выходит на дуэль с французским офицером и доказывает, что в искусстве фехтовать побеждает неумение. — Мы прибываем в новое очень надежное место.
Ночью мы прибыли в какой-то маленький городок, названия которого не помню. Нас заперли в одну старую церковь; ночь мы провели очень плохо; нам не дали даже соломы, на которой мы могли бы уснуть. Потолок местами обвалился, и месяц довольно ярко освещал нас. Это давало хоть какое-то удобство, потому что положение семидесяти пяти человек, запертых в темноте, было бы очень тягостным. Мы нигде не находили места, чтобы лечь; грязь, какая обычна вообще во всех развалившихся зданиях во Франции, издавала ужасающее зловоние. О'Брайен был задумчив и едва отвечал на вопросы, которые я предлагал ему; ясно было, что он думал об оскорблении, нанесенном ему французским офицером. На рассвете дверь была отперта, и французские солдаты вывели нас на одну из площадей города, где мы встретили квартировавшие тут войска, которые вышли под начальством своих офицеров принять нас из рук отряда, конвоировавшего нас из Тулона. Мы были этому очень рады, так как знали, что, поступая под надзор другого отряда, освобождались от грубого офицера, командовавшего до сих пор пленными. Но мы избавились от него иначе. Среди офицеров, обходивших наши ряды, я заметил одного капитана, с которым очень коротко познакомился в городе Сете, у полковника О'Брайена. Я тотчас же назвал его по имени — он оглянулся, увидел О'Брайена и меня, подошел к нам, пожал нам руки и изъявил удивление, что находит нас в таком состоянии. О'Брайен рассказал ему, как с нами обращались, что привело в негодование всех окруживших нас офицеров. Майор, командовавший гарнизоном города, обратился к офицеру, сопровождавшему нас из Тулона (он состоял в чине поручика) и потребовал у него отчета. Тот начал отпираться, уверяя, что обхождение его с нами не было дурно, и прибавил, будто по полученным им сведениям считал нас присвоившими офицерские мундиры, на которые мы не имели ни малейшего права. В ответ на это О'Брайен назвал его лжецом и объявил, что получил от него удар саблей, чего тот не осмелился бы нанести, если бы он не был пленником. Он добавил, что ничего более не требует, кроме удовлетворения за нанесенную обиду. Майор и офицеры отошли в сторону для совещания и через несколько минут решили, что поручик обязан дать ему требуемое удовлетворение. Офицер отвечал, что он готов, но тем не менее заметно было, что готовность его не слишком-то охотная. Пленные поручены были надзору солдат под командой младшего офицера, между тем как прочие, сопровождая О'Брайена, меня и офицера, отправились за город. Дорогой я спросил О'Брайена, каким оружием он намерен драться.
— Я согласен, — ответил он, — сразиться на коротеньких шпагах.
— Да разве ты умеешь фехтовать? — спросил я.
— Нисколько, Питер; но это-то и послужит в мою пользу.
— Как так? — возразил я.
— Вот так, Питер. Если один из противников хорошо фехтует, а второй плохо, то первый, несомненно, убьет последнего; но если один вовсе ничего не смыслит в фехтовании, в таком случае, Питер, дело принимает совсем другой оборот, потому что хороший фехтовальщик приходит в такое же смущение от твоего невежества, как ты от его искусства, и между вами появляется больше равновесия. Я вбил себе в голову, Питер, что убью этого молодца, и не будь я О'Брайен, если не сделаю этого.
— Надеюсь, но, пожалуйста, не будь так уверен.
— Чувство-то уверенности и обеспечит успех. Клянусь кровью О'Брайенов! Не ударил ли он меня саблей — меня, как какого-нибудь паяца в пантомиме!
Между тем мы пришли к назначенному месту. Французский офицер снял с себя все, кроме рубашки и панталон; О'Брайен последовал его примеру, скинув даже сапоги, и, оставшись в одних носках, стал на траву.
Шпаги были смерены и поданы противникам, которые тотчас же принялись за дело. Признаюсь, страх перехватил мое дыхание, мысль о потере О'Брайена поражала меня горестью и ужасом. Тут только почувствовал я всю цену его дружбы. Я готов был встать на его место и лучше умереть, чем видеть его раненым.
Сначала О'Брайен, в подражание офицеру, принял правильную оборонительную позицию, но ненадолго. Неожиданным прыжком ринулся он на своего противника и, нанося с удивительной быстротой удары острием шпаги, заставил его только парировать удары в ожидании удобного случая для наступательного действия. Наконец, О'Брайен, чувствуя, что долго не продержится, схватил левой рукой шпагу лейтенанта почти около эфеса, направил ее себе под руку и, бросившись вперед, пронзил его насквозь. Все это произошло менее чем в одну минуту; поручик умер спустя полчаса.
Французские офицеры, в самом начале заметившие неопытность О'Брайена в фехтовании, были очень удивлены результатом дуэли. О'Брайен, сорвав клок травы, отер им шпагу, подал ее офицеру, которому она принадлежала, и, поблагодарив майора с прочими офицерами за их беспристрастие, отправился на площадь, где снова присоединился к пленным.
Вскоре к нам вышел и майор и спросил, не хотим ли мы быть отпущены под честное слово, так как, в гаком случае, мы опять можем путешествовать без всяких неприятностей. Мы согласились и поблагодарили его за участие и снисходительность к нам. Я не мог не заметить, что французы были несколько огорчены успехом О'Брайена, хотя деликатность не позволяла им обнаружить этого чувства. Когда мы вышли из города, О'Брайен сказал мне, что если бы не благородное обхождение с нами офицеров, он ни за что бы не согласился быть отпущенным под честное слово, потому что убежден в возможности нашего побега.
Я почти забыл сказать, что, когда мы воротились с дуэли, катерный мичман, подойдя к О'Брайену, просил его засвидетельствовать коменданту, что он также офицер. Но О'Брайен ответил, что этому нет никаких доказательств, кроме его слов.
— Если вы офицер, — сказал он, — вы должны доказать это сами, тем более что все в вашей наружности решительно опровергает ваше заявление.