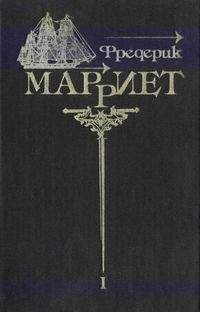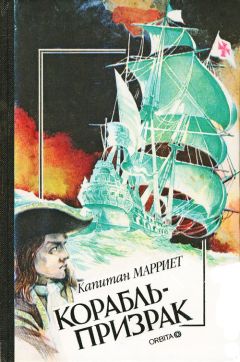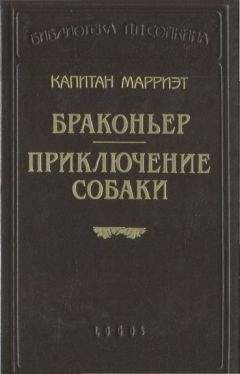Не стану останавливаться на описании трехнедельного марша, в продолжение которого мы попеременно испытывали то хорошее, то дурное обращение, смотря по расположению тех, под надзором кого мы находились; замечу только, что дворяне по происхождению, все до одного, обходились с нами учтиво, тогда как люди, возвысившиеся из ничтожества во времена революции, поступали с нами грубо, иногда даже жестоко. Когда мы пришли наконец в Живе, в назначенную для нас тюрьму, прошло уже четыре месяца со времени нашего пленения.
— Питер, — сказал О'Брайен, бросив торопливый взгляд на укрепления и на реку, разделявшую город, — я не вижу причины, почему бы нам не пообедать на Рождество в Англии; я успел орлиным взглядом обозреть местность, и теперь остается только узнать, где нас посадят.
Признаться, взглянув на плотины и высокие укрепления, я подумал совершенно другое; точно также и жандарм, шедший около нас, заметив пытливый взор О'Брайена, спокойно произнес:
— Вы считаете это возможным?
— Все возможно для храброго, французская армия доказала это, — отвечал О'Брайен.
— Вы правы, — согласился жандарм, польщенный похвалой своей нации. — Желаю вам успеха, вы заслуживаете его; но… — и он показал головой.
— Только бы мне достать план крепости, — продолжал О'Брайен, — я с удовольствием дал бы за него пять наполеондоров.
И он взглянул на жандарма.
— Я не вижу причины, — отвечал жандарм, — почему офицеру, хотя бы даже и пленному, не заняться изучением фортификации. Через два часа вы будете в тюрьме; теперь я припоминаю: на карте города крепость изображена довольно подробно, так что можно получить о ней понятие. Но мы уж слишком разговорились.
И, сказав это, он удалился в арьергард.
Через четверть часа мы были уже на плацу, где, по обыкновению, нас встретил отряд солдат с барабанщиками впереди. До представления губернатору нас с торжеством провели по всему городу. Это делалось по распоряжению правительства в каждом городе, через который мы проходили. Когда мы остановились перед домом губернатора, жандарм, разговаривавший с нами на площади, мигнул О'Брайену, давая тем знать, что все готово. О'Брайен вынул пять наполеондоров, завернул их в бумажку и держал в руке. Через минуту жандарм приблизился к нему.
— Вот вам платок, — сказал он, подавая О'Брайену старый шелковый платок.
— Благодарю вас, — отвечал О'Брайен, пряча в карман платок, в котором была завернута карта. — Вот вам на выпивку!.. — И он всунул бумажку с пятью наполеондорами в руку жандарма, который тотчас же отошел прочь.
Все это было сделано очень кстати, потому что после мы узнали, что в списке пленных против имени О'Брайена и моего была сделана приписка, чтоб не выпускать нас из крепости не только под честное слово, но даже под караулом. Притом мы и так никогда бы не получили этого позволения, потому что комендант крепости был близким родственником поручика, убитого на дуэли, и мстил нам за него. Простояв целый час перед губернаторским домом, где по обыкновению сделали перекличку, выставляя таким образом напоказ народу, мы была наконец отпущены и через несколько минут заперты и одну из важнейших крепостей Франции.
О'Брайен получает патент на лейтенанта. — Уходим из Живе по-французски, не прощаясь.
Если я сомневался в возможности побега, рассматривая крепость снаружи, то счел это совершенно невозможным, увидев изнутри, и мнение это высказал О'Брайену.
Нас провели во двор, окруженный высоким валом; помещения для пленных были выстроены так, что их потолки находились на уровне двора. С каждой стороны площади стоял часовой, надзиравший за нами сверху. Они очень походили на землянки, какие строятся для медведей, только были вдвое просторнее.
— Тсс, Питер, — сказал мне О'Брайен, — нашему побегу будет способствовать именно надежность этого места. Однако перестанем говорить об этом; здесь есть шпионы, которые понимают по-английски.
Мы были помещены вшестером в одну комнату; имущество наше сначала просмотрели и потом уже возвратили нам.
— Чем дальше, тем лучше, Питер, — заметил О'Брайен, — они не нашли ничего!
— Чего? — спросил я.
— Небольшого набора вещей, которые со временем нам очень пригодятся.
Тут он показал мне — чего я не замечал прежде — потаенное дно в своем сундуке, оклеенное, как все прочее, и очень искусно скрытое.
— Что здесь такое, О'Брайен? — спросил я.
— Не твое дело. Я заказал это в Монпелье; ты увидишь в свое время.
Товарищи наши по помещению, пробыв здесь с четверть часа, ушли по первому звону колокола, возвещавшего обед.
— Ну, Питер, — сказал О'Брайен, — теперь мне пора освободиться от груза. Запри дверь.
Он разделся и, сняв белье, показал мне шелковую веревку, обвязанную вокруг тела. Она была толщиной в полдюйма и с узлами через каждые два фута, а в длину имела около шестнадцати футов.
— Питер, — сказал он, между тем как я развязывал веревку, — я ношу ее с тех пор, как мы вышли из Монпелье, и ты не можешь представить себе страдания, которые я вытерпел; но мы должны быть в Англии, это решено.
Осмотрев веревку, я взглянул на О'Брайена и увидел, что он действительно должен был чувствовать страшную боль. Во многих местах кожа была содрана от постоянного трения, и едва он успел одеться, как лишился чувств. Я испугался, однако ж не забыл упрятать веревку в сундук и запереть его на ключ, прежде чем позвать на помощь. Он тотчас же пришел в себя и на вопрос, что с ним сделалось, отвечал, что с детства подвержен обморокам. При этом он серьезно взглянул на меня; я показал ему ключ, и он успокоился. В течение нескольких дней О'Брайен чувствовал себя нездоровым и не выходил из комнаты. В это время он часто рассматривал карту, данную ему жандармом.
— Питер, — спросил он однажды, — умеешь ты плавать?
— Нет, — ответил я, — но не беспокойся об этом.
— Нельзя не беспокоиться, Питер, потому что ведь нам придется переправляться через Маас, а лодку не всегда можно найти. Ты видишь, крепость омывается с одной стороны рекой; так как это самая надежная сторона, то она меньше охраняется, а потому мы убежим отсюда — я вижу ясно наш путь до второго вала у реки; но когда мы бросимся в реку, я вынужден буду поддерживать тебя над водой.
— Неужели ты намерен бежать, О'Брайен? Я не вижу, как мы доберемся до этого вала, где должны встретиться лицом к лицу с четырьмя часовыми.
— Это не твоя забота, Питер; делай свое дело, но прежде всего скажи, согласен ты попытать со мной счастья?
— Да, — отвечал я, — конечно, если ты настолько доверяешь мне, что согласен принять меня в товарищи.