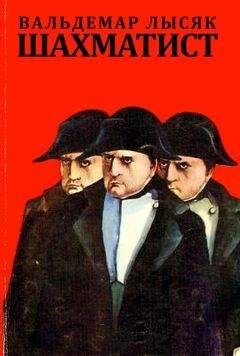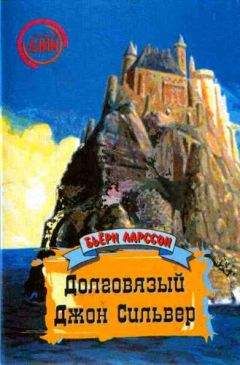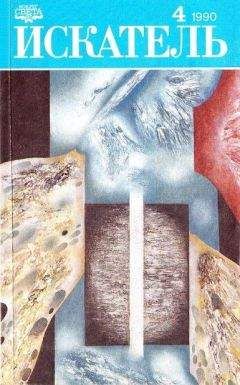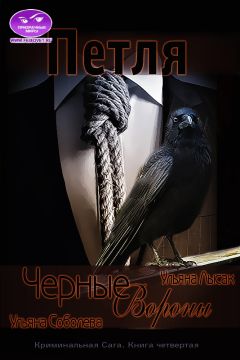Через пару часов, уже загримированный, Батхерст оказался в Челси. Он шел очень медленно, на что имел полнейшее право, поскольку сейчас был стариком: седоволосым, сгорбленным и одетым в такие же лохмотья, как и проживающая здесь беднота.
Чейн Уок изгибалась вдоль берега, со стороны реки огражденная высокими деревьями, а со стороны суши — стеной из трехэтажных, хотя и ниже деревьев, домов. Улица была длинной, поэтому Бенджамен шел долго, внимательно наблюдая по сторонам, рассчитывая на то, что он удачливый глупец. Дойдя до самого конца, он пришел к убеждению, что с удачей сегодня как-то не очень и для него остается только вторая часть определения. Мимо него не проходил никакой ежеминутно оглядывающийся мрачный тип, да и вообще кто-либо, кого он мог бы заподозрить; ни на какой из немногочисленных вывесок не было надписи «Французский разведывательный центр».
Когда он решил возвращаться, уже темнело. Редкие прохожие спешили домой; улица на глазах пустела. Сумерки скрыли тени деревьев, превратив их в спящие, мертвые столбы, в то время, как их стоящие напротив каменные и деревянные соседи оживали огоньками в окнах.
Батхерст подошел к деревянному барьеру, на котором рыбаки развешивали свои сети, оперся на него и засмотрелся в черное зеркало воды. В нем отражались остатки солнечного багрянца, а когда он снова пришел в себя — уже только золотые капельки звезд. Перед мысленным взором Бенджамена проходили лица, события, слова, женщины, деревянная лошадка от дядюшки, не гаснущая тоска по Эльсинору[126], какой-то костер, прикосновение чьей-то руки… Нет, это неправда, будто все это проходит перед тобой в мгновение смерти, ведь тогда на это просто нет времени — это все возвращается именно в такие моменты, и тебе делается так хорошо, будто ты поднес руки к огню камина, вернувшись с холода, и так хочется, чтобы все это никогда не заканчивалось… Хватит!
С другого берега доносились какие-то крики, из-за спины, от домов и садов доходил смрад вечерней жизни, кухонные запахи, крики детей, плач женщины, избиваемой мужем или любовником, кто-то насвистывал печальную, рвущую сердце мелодию, кто-то дразнил собаку… Бенджамен вернулся домой.
Грим он снял уже у порога. Дверь ему открыл Степлтон.
— Все уже вернулись? — спросил Бенджамен.
— Нет, сэр. Только начинают сходиться.
— С этого момента уже никаких отлучек, разве что я сам прикажу.
— Понял, сэр.
В день отъезда (четверг, 30 октября 1806 года) было холодно. Кэстлри, который вчера попрощался с Батхерстом еще до полуночи (когда принес деньги), неожиданно пришел еще и утром, чтобы попрощаться еще раз.
— Бенджамен, — сказал он, — выполняй план до йоты, и я обещаю, что ты выиграешь, и что…
— Милорд, я питаюсь воздухом, наполненным обещаниями. Так не откармливают даже каплунов, — ответил на это Бенджамен.
— Не понял, Бенджамен, к чему ты, — пробормотал изумленный Кэстлри. — Что означают эти слова?
— Точно так же, милорд, ответил король Гамлету на его слова о воздухе, начиненном обещаниями. Король ответил: «Не понимаю, Гамлет, эти слова меня не касаются».
— Кончай уже с этим театром, Бенджамен, будь добр! Сцена, на которую ты выходишь не имеет ничего общего с театром, но с…
— Совсем наоборот, милорд, имеет, причем, гораздо больше, чем какая-либо другая. Если бы не было так, вы бы не наняли меня, ибо что я люблю больше театра, игры? В этой пьесе успех придет лишь тогда, если твой сценарий обладает хотя бы сотой частью гения Шекспира и если я создам образ роли.
— Бенджамен, я сделал все возможное, чтобы облегчить тебе дело. В подготовку операции я вложил кучу денег и много труда, поскольку я не из тех, кто сидит под яблоней с корзиной. Я помогаю срывать яблоки! Но вот теперь все в твоих руках. Да поможет тебе Господь!
Бенджамену хотелось ответить, что это вовсе не яблоки, но раскаленные угли, которые необходимо вынуть из огня, и что если бы он был уверен в том, что в дело включится бог Кэстлри, то предпочел бы остаться дома. Но он сдержался, кивнул и сел в карету — одну из двух, которые были наняты им для себя и коммандос.
После полудня они увидели на горизонте шпиль готического собора, а вскоре после этого — огромные, подпираемые с боков двумя башнями городские ворота Грейт Ярмута. Батхерст не без труда отыскал среди леса мачт две, принадлежащие «Чайке», на которой уже располагались Юзеф с Томом. Капитан устроил коммандос в трюме, а потом закрылся с Батхерстом в своей каюте.
— Когда мы выходим и куда? — спросил он.
— Сегодня, а если можно, то прямо сейчас. В Альтону.
— Погода не самая лучшая, сэр. Надвигается шторм.
— Плохая погода — это наш союзник, капитан. Будет гораздо хуже, если мы попадем под пушки какого-нибудь французского фрегата.
Сторман расхохотался.
— Лично я пушек не боюсь, что бы там ни было, я же пушечный сын, ха-ха-ха[127]!!! Моя мать была девкой на судне Его Королевского Величества. Сам я родился под Кибероном, в сражении и шторме, ха-ха-ха[128]!!! Ну ладно, хватит шутить. Позволю высказать мнение, сэр, что в этом плане причин для опасений нет. Мы поплывем под голландским флагом, впрочем, у меня в запасе имеются и другие. Название снимем сейчас же, просто так, на всякий случай, потому что после Трафальгара французы редко высовывают нос из портов, а уж между Проливом и Балтикой их и со свечой не найдешь.
Крепкий ветер с северо-запада подгонял «Чайку» со скоростью, доходящей иногда до десятка узлов. Капитан опасался за мачты брига, но по приказу Батхерста не уменьшил паруса, так что к цели они мчались, не теряя ни секунды. Шторм нагнал их около Западно-фризских островов и отбросил к северу, так что остров Гельголанд они прошли со стороны Северофризского архипелага и в Гельголандский залив вошли чуть ли не под прямым углом к побережью, южным курсом.
Ночью с субботы на воскресенье (с 1 на 2 ноября 1806 года) практически все, за исключением Тома, Парвиса и Сия страдали от морской болезни. Батхерст спустился в капитанскую каюту и спросил:
— Когда мы доплывем? Еще немного такой болтанки, и моим людям конец!
— Тут я ничем не помогу, сэр! При таком ветре мы должны быть на месте меньше, чем через сутки, если только перед тем не треснут мачты. Это лишь для вас, сухопутных крыс, этот шторм сильный. При настоящем шторме мне бы пришлось зарифовать паруса, и тут бы вы уже ничего не сказали. Впрочем, насколько я чувствую, он уже слабеет. Еще несколько часов и…
Вдруг Сторман замолчал, вслушался в вой ветра и тут же заорал, подняв голову к палубе:
— Сто якорей в глотку! Кто там свистит? Боцман!