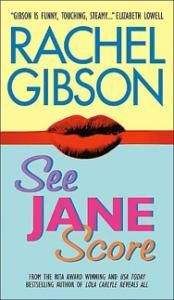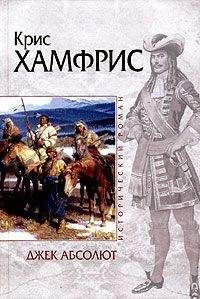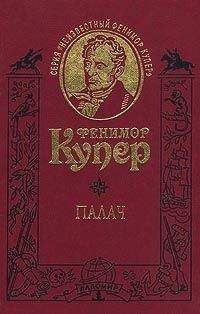— Ну что ж, Джанук. Мы уже слышали о твоих полуобнаженных девицах. А вот можешь ли ты поделиться с нами рассказами о сражениях, как наш друг Да Коста?
— Есть у меня несколько. — Джанук улыбнулся и подался ближе. — Но я убедился в том, что люди с самыми интересными историями редко их рассказывают. Те, кто учили меня сражаться, научили меня и тому, что молчание и шрамы — это истинные свидетельства.
— Я бы с этим согласился. Твое молчание мы уже оценили. И кое-какие твои шрамы я тоже вижу. — Он указал на неровную полосу на плече своего соседа. — Аркебуза или мушкет? Я бы сказал, что стреляли с довольно большого расстояния, потому что выходного отверстия нет. Так извлечь пулю мог только очень хороший хирург.
— Так оно и было. Самый лучший. — Джанук говорил очень тихо, заставив француза придвинуться ближе. — Янычарам всегда предоставлялось все лучшее.
Жан тихо присвистнул:
— Янычарам? Значит, ты был наемником, как мы. Полагаю, ты воевал за турок.
— Разве слово «наемник» тут подходит? Мои родители из Дубровника продали меня вербовщикам султана, когда мне было восемь.
— А мне казалось, что янычары — это гвардия крови, баловни и любимцы султана.
— Баловни — возможно. Но раб — это раб, как бы его ни холили.
— Раб, у которого было одновременно три жены? — Жан улыбнулся. — Я о таком рабстве что-то не слышал.
Серые глаза на секунду устремились к горизонту:
— Это было в другой жизни. Позже.
Жан понял, что терпение его соседа на пределе.
— Но все-таки — янычар! Это впечатляет.
— Надеюсь, ты оставишь свое уважение при себе.
— Конечно. Кто-нибудь другой может оказаться не таким терпимым, как я. Потому что я получил вот это от одного из твоих товарищей.
Жан наклонил голову и продемонстрировал кривой шрам, который начинался у него за левым ухом, а заканчивался на макушке.
— Кривая сабля, — заметил Джанук. — Похоже, тебе попался плохой янычар, раз ты все еще дышишь.
— Он умер, когда наносил мне этот удар. — Жан потер голову. — По-моему, он неплохо справился.
— И где это было? Надо думать, в морском сражении.
— Я никогда не воевал на море. Хотя надеюсь исправить это упущение, и в самое ближайшее время. — Жан посмотрел на Джанука, проверяя, понял ли тот его намек, но не заметил никакой реакции и добавил: — Нет, это было… лет десять назад, апрельским утром на какой-то равнине в Венгрии. Она называлась Мохач.
Тут уже присвистнул Джанук:
— Ты был при Мохаче?
— Был. Один из агнцев Фрундсберга, упокой Боже душу командующего.
— Не обижайся, но я к твоим благословениям не стану присоединяться. Этот демон-немец и его «агнцы» чуть было не вырвали у нас победу.
— Ты был там?
— Был.
— Ты показался мне слишком юным.
— Это было мое первое сражение.
— И, как видишь, для меня оно чуть было не стало последним.
— И для меня, — отозвался Джанук, указывая на мушкетный шрам.
Оба молча посмотрели друг на друга. На мгновение они перенеслись в то апрельское утро 1526 года, когда армии Сулеймана Великолепного вырвались с покоренных Балкан, чтобы встретить гордость Богемии и Венгрии на туманной равнине, называвшейся Мохач.
В их молчании возникла тесная связь благородных противников.
«Как странно, — вдруг подумал Жан, — я прикован между двумя бывшими солдатами и с каждым уже встречался в бою. Это должно иметь какой-то тайный смысл».
Они не успели произнести слова, которыми все равно нельзя было бы выразить их воспоминания: позади началась шумная свара. Она охватила скамьи, которые занимали преимущественно рабы-мусульмане. По словам Да Косты, они все до одного были корсарами, захваченными во время нескольких сражений в самых разных местах Средиземного моря.
— Шобаки мушульмане! — Старик сплюнул, попав слюной себе на подбородок. — Этих подонков кормят меньше наш, а шекут больше — и вше равно они дерутшя!
— Вот вам и сотоварищи по веслам! — пошутил Хакон.
— Какие они шотоварищи, в жопу! Шмотри, это опять тот Акэ. Корбо будет в вошторге. Как он ненавидит этих черных! Говорит, они прохлаждаютшя. Называет их швоими черными обежьянами.
Жан увидел, как громадный черный мужчина сжимает меньшего по росту белого в медвежьих объятиях.
— С кем это он схватился?
— Не ражгляжу… А! Это Немой! Понятно, почему темнокожий его прижал. Это — шамый отпетый вор на корабле. И жлобный к тому же!
— Растащите их! — завопил Корбо.
Он и трое его подручных бросились к дерущимся. Защелкали плети. Гребцы с соседних скамеек постарались отодвинуться на всю длину цепей, но досталось и им. Надсмотрщики не особо разбирались. Люди, которых били, громко заорали.
Акэ встряхивал Немого, словно детскую куклу. Меньший из мужчин казался совершенно безжизненным: негр стиснул его так сильно, что он не смог дышать и потерял сознание. Однако перед этим он вогнал заостренную щепку, выуженную из грязи, прямо в грудь своему противнику. Из черной груди гиганта хлестала струя крови. Жан подумал, что если бы удар пришелся на дюйм ниже или африканец отреагировал чуть медленнее, то помойная крыса из Ниццы сейчас не чувствовала бы, что ей вот-вот сломают ребра.
От потери крови Акэ ослабел — или, возможно, он решил, что убил крысенка, который, как предположил Да Коста, пытался украсть и без того скудную порцию негра. Как бы то ни было, Акэ вдруг бросил своего противника и снова сел на свое место, одной рукой зажимая рану, а второй пытаясь закрыться от ударов плети.
Крики продолжались. На девяти языках и множестве диалектов высказывались мнения о том, кто виноват в драке. Приятели Акэ, пятнадцать человек из одного племени, просто ритмично топали ногами и негромко пели, звеня в такт цепями. Помощники Корбо сновали между ними, раздавая удары направо и налево. Это не помогало; наоборот, шум все усиливался, особенно после того, как Немой, который лежал так неподвижно, что все сочли его мертвым, внезапно перевернулся и наблевал прямо на ноги Корбо.
— Тихо, собаки! — крикнул надсмотрщик, рассвирепев, и лягнул неудачника из Ниццы прямо в лицо, так что тот снова потерял сознание.
Его приказ остался без внимания. Теперь уже казалось, будто вопят все без исключения.
Находясь в семи рядах от драки, Да Коста прыгал на Месте рядом с Жаном.
— Ага! Дай ему еще!
— А ты на чьей стороне? — рассмеялся Хакон.
— Ненавижу этого портового крышенка Немого. Украл у меня прекрашную деревянную вштавную челюшть.
— А почему его прозвали Немым?
Хакон любил, чтобы в истории было понятно, что представляют из себя все действующие лица.
— Яжык вырван. Наверное, жа богохулынтво. Ага! Отдай его темнокожему!