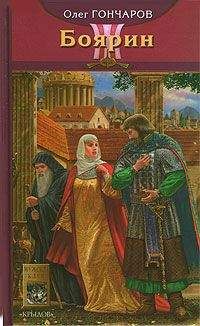— Не знаю! — разозлился я. — До сих пор понять не могу. Может, пожалел тебя…
— Пожалел, значит? — ухмыльнулась она.
— Не хозяйку пожалел, не княгиню, а бабу глупую, да чадо ее, которое круглой сиротой останется. А может, себя жалко стало. Понял, что спокойно жить потом не смогу, вот на выручку и кинулся.
— Так, выходит, ты меня дурой считаешь, а себя праведником совестливым? — тут уж она взбеленилась.
— А не была бы ты дурой, пошла бы за отца, — сказал я спокойно. — И не пришлось бы земли в горе топить, а потом от своего же народа за стенами вышгородскими хорониться, да у меня защиты искать.
— Да как ты смеешь, холоп?! — крикнула она зло, платочек свой пополам порвала да обрывки прочь откинула.
— Смею, — усмехнулся я, повернулся и к двери похромал.
Руку на притвор положил и вдруг услышал, как железо за спиной лязгнуло. Обернулся быстро, вижу: Ольга меч со стены сорвала да на меня кинулась. Глаза у нее словно угли горят, рот в гневе перекосило, рычит по-звериному. Видно, крепко ее задел, и спуску она мне давать не намерена.
Перехватил я ее руку, для удара занесенную, отобрал меч, в сторону отшвырнул. Звякнул клинок об пол. Я княгиню к стенке прижал, а она вырывается, укусить меня хочет, ногтями глаза выцарапать.
— Вот такая, — говорю ей тихонько, — ты мне больше нравишься. А то рыбака наслушалась, нюни распустила.
— Ненавижу тебя! — она шипит. — Ненавижу!
— Думаешь, я тебя люблю? — я ей в ответ. — Вот только отец мой сам договор печатью скрепил, сам я от княжества Древлянского отказался, сам меч родовой сломал. И клятву свою нарушать не намерен. Значит, до поры буду холопом тебе верным, и если надо будет, костьми за тебя лягу. А когда мое холопство кончится, вот тогда и поговорим. — И руки ее отпустил.
А она мне шею руками этими обвила, притянула к себе и лицо мое, дулебами измолоченное, целовать жарко стала. Губы мои избитые своими губами нашла. Поморщился я от боли и на поцелуй ее ответил.
Так и случилось у нас.
Без любви.
Зло.
Вперемежку с кровью из шрама не затянувшегося. Словно и вправду Блуд нас стрелою своей пронзил. Как тогда. Зимой. В лесу заснеженном. В берлоге простылой, а может, и еще горячее…
— Сама не пойму, как ты в душу мою пробрался? — шепнула она, когда все закончилось. — Только увидела я тебя там, в тереме киевском, когда вы меня сватать приезжали, и точно игла ржавая в сердце кольнула да и засела…
— Молчи, — прикрыл я ей рот ладонью.
Странно у нас все случилось. Но что содеялось, уже не переделать. Да и Ольгу понять можно. Живой же человек, а живое, оно завсегда к теплу тянется. Знала она, что не будет у нас любви потому, что ее быть не может, но при всем при том чуяла, что нам друг без дружки никак. И я это понимал. И жались мы друг к другу, как заяц к волку жмется среди половодья весеннего, когда кругом вода, а бревнышко под ногами вертлявое. Либо вместе погибать в бурном потоке, либо вместе к суше выплывать. А кто волк и кто заяц, потом решим, когда выгребем да на твердое ногами станем.
Зуб ныл нещадно. Спускался я вниз из опочивальни по темной лестнице, а сам лишь об одном думал, как же боль эту быстрее угомонить.
Опасливо спускался, на цыпочках, чтоб сенных зазря не всполошить. Сколько раз за это лето я вот так от Ольги ходил, дорога уже привычной стала.
Сошел вниз, миновал горницу. Мимо стола, на котором у нас блудство впервые сотворилось, прошмыгнул, скрежет зубовный сдерживая. Отворил дверь небрежно, знал, что не скрипнет она, сам дегтем петли кованые смазывал, миновал сени, кадками и закромами заставленные, в подклеть соскользнул, к чулану, где спасение мое — сало розовое и чеснок, в косы завитый, — подобрался и… зарычал злобно. На чулане замок огроменный. Стукнул от безнадеги кулаком по деревянной перегородке. Зашаталась она, но не далась. Ничего не поделать, придется ключницу будить.
Ключница в отдельной клетушке обитала. Осторожно я дверцу к ней приоткрыл и, несмотря на боль и ярость мою, не смог улыбку сдержать. Храпом меня бабулька встретила. Да таким отчаянным, что показалось, будто в темноте не старушонка маленькая да сухонькая, а витязь — дубина стоеросовая почивает. Красиво бабка храпела, с присвистом и причмокиванием. Даже жалко красоту такую рушить, только себя жальче.
— Бабка Милана, — позвал я ее тихо. — Слышь? Нет, не слышит она. Знай носом своим крючковатым песню чудную выводит.
— Слышь, бабка Милана?
— Хр-р-р… — в ответ.
— Ах, чтоб тебя… — изругался я, когда снова зуб дернуло.
Зашел я в клетушку. Ни зги не видать. Темень, хоть глаз коли. Руки перед собой выставил, сделал шаг, потом другой…
— Хр-р-р… — ажник уши закладывает.
И как бабка от своих песнопений не просыпается? Привыкла, наверное, за столько-то лет.
— Милана, — позвал я чуть громче и еще шаг сделал.
Коленкой на деревянную грядушку бабкиной постели наткнулся. Крохотная клеть у ключницы, оттого и храп такой громкий получается.
— Бабка Милана, вставай! — Руку вниз опустил, ногу нащупал, за палец ее потянул.
А ноготь у нее на пальце твердый да вострый. Ороговел совсем, как копыто коровье. Колется.
— Да встанешь ты, наконец, или нет?! — не на шутку рассердился я и по ногтю ее своим щелкнул.
Храп пропал, затихла бабулька.
— Бабка Милана, зто я, Добрый.
— А-а-а! — завопила старушонка, да так звонко, что я чуть не оглох.
— Тише, Милана, — я ей тихонько. — Перебудишь всех.
— Отойди от меня, охальник! — не унимается ключница. — Живой я тебе не дамся!
— Да ты чего, бабка? Сбрендила, что ли? Это же я, Добрый.
— Мало тебе княгини, так ты ко мне заглянуть решил, разбойник? Проваливай откель пришел, не то я сенных кликну!
— Да ты мне и в голодный год за бодню [59] коврижек не нужна! Совсем с ума рюхнулась, карга старая! — тут уж и во мне злость взыграла.
— А чего же тебе надобно, милок, среди ночи темной? — прошептала бабка испуганно.
— Ключ мне нужен! — наседаю я на нее. — Ключ мне давай!
— Какой ключ? — впотьмах бабку не видно, но чую я, она в испуге в угол забилась.
— От чулана, в котором ты сало хранишь.
— Али проголодался ты? Так шел бы в поварню, там бабы к завтрему снедь готовить должны…
— Не тебе решать, куда мне идти! Ключ мне, да поживее!
— Ага, — и огнивом клацнула.
Брызнули искры, затлел трут, а через мгновение желтый язычок огня заплясал, лампа масляная загорелась и светло в клетушке стало. Разглядел я бабку — в самый угол она забилась. Волосики у нее реденькие добырком стоят, взгляд спросонья бешеный, рубаха чуть не до пупа задралась, ножки кривенькие под себя поджала, лампу рукой костлявой перед собой, словно щит, выставила, а в другой руке у нее валенок. Ни дать ни взять — кикимвра! [60]
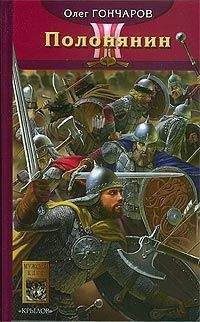
![Карочка - [email protected] - Наследники](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)