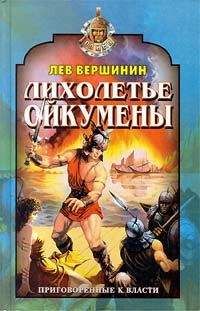Ужас.
Темно-пурпурный плащ ниспадал с плеч предрассветного морока широкими, тщательно разобранными складками, золотые узоры нагрудника дерзко выглядывали из-под наплывов драгоценной ткани, скрепленной жемчужной фибулой на шее, широкие шальвары шелестящего синского шелка полоскались при каждом шаге, и высокая тройная тиара персидских шахиншахов венчала прорезанное двумя глубокими морщинами чело.
Таким он был на своем последнем пиршестве.
Ужас.
Он пошел неслышно, цепко ухватил за плечо и разбудил.
И тотчас, не успелось еще даже и ощутить в полной мере внезапное пробуждение, нахлынуло обычное: темная волна безумия, дремлющая в крохотной раковине, угнездившейся где-то над переносицей, пробудилась, взметнулась и растеклась по телу, лишив сил тренированные ноги…
…не вскочить!
бессильно распластав по ложу мускулистые, гнущие бронзовые прутья руки…
…не отмахнуться!
кляпом из вонючей, гнусной на вкус пены плотно-наплотно забив рот…
…не закричать!
Пустота. Тишина. Бессилие.
Ужас.
И липкий, омерзительный, привычный пот.
– Оставь меня!.. – безмолвно, одними глазами попросил Кассандр.
– Никогда… – прошелестел Ужас, ухмыльнувшись. – Ты мой должник…
Кровавые пятна-прожилки растекались в обрамлении пушистых ресниц все гуще, заливая синеву багрянцем. Тонкие струящиеся тени пальцев, возникнув невесть откуда, щемяще-медлительно подползли к изголовью, коснулись слипшихся волос наместника Македонии, погладили. Сперва – совсем чуть-чуть, будто лаская. Или – примериваясь.
Кассандр, сын Антипатра, чуть слышно застонал, и неуловимый всхлип отобрал последние силы, превратив тело в измочаленную ветошь.
Совсем как в тот день!
Тогда тоже: сначала Ужас… нет! Тогда он еще был человеком… нет, нет! Он никогда не был человеком!.. Сначала он просто заглянул в глаза; спокойно, без гнева, словно бы даже испытующе, будто пытаясь прочесть нечто затаенное во взоре молодого длиннолицего увальня, одетого вызывающе бедно для сверкающих лалами и хризолитами палат вавилонского дворца… Он заглянул прямо в лицо Кассандру и коснулся его волос, как бы поглаживая…
Ухватил крепко-накрепко, чтобы не вырвался.
Намотал кудри на пальцы.
И – ударил.
Затылком о мраморную колонну.
Белую, в легчайших голубоватых разводах колонну пиршественного покоя. Полированный камень мгновенно окрасился в красное. В самый первый миг боли совсем не было, и не было понимания, что бьют для того, чтобы убить, а было одно только огромное, совсем незнакомое изумление.
А затем – ослепительная желто-красная вспышка.
И боль.
И тьма.
Та самая ноющая тьма, что приходит с тех пор время от времени, и сбивает с ног, и заставляет измученное, хрипящее тело корчиться в судорогах, и заливает подбородок сизой пузырчатой пеной.
Тьма, рожденная болью и окровавленным мрамором.
– За что?
– За то, что ты убил меня…
Оказывается, Ужас способен улыбаться, и во рту у него сверкают длинные изогнутые клыки.
– Я не убивал тебя!
– Не лги!
– Я убил тебя позже, – тихо и покорно соглашается Кассандр, сын Антипатра.
Сквозь пелену больной, взбаламученной тьмы выплывает отчетливое: вот сундук, а там, в тайничке, крохотный пузырек, выточенный из конского копыта… ничто иное не способно долго удерживать смертную влагу, скрытую в нем. Всего только три капли, против которых не знают противоядия даже врачеватели-египтяне… И вот очередной пир. Он, Кассандр, виночерпий царя, он уже прощен (за что?!) и обласкан Божественным Александром, и он несет Царю Царей Европы и Азии золотую чашу, до краев полную звонко пахнущим кавказским вином… и там, в фиолетовой, одурманивающе душистой жидкости, бесследно растворились те самые три капли, не имеющие ни вкуса, ни цвета, ни запаха, что за пригоршню алых рубинов продал ему дряхлый, слепой служитель храма Черных Ворот Иштар Сладкогласый…
– Ты признаешься, что убил меня? – шуршит Ужас.
– Но я спас Македонию! – хрипит Кассандр, корчась на измятом покрывале.
…Да! Да!! Да!!!
Убил! И спас!!
Разве можно забыть: хмурое, малоподвижное, словно из тяжелого гранита вырубленное лицо отца, обычно бесстрастное, но в тот миг сведенное гримасой неизбывного горя, дрожащие жилистые руки, бессильно выронившие по-змеиному прошуршавший свиток… и надорванный шепот: «Он убивает лучших, сынок!.. он убивает всех!.. он безумен!.. о, если бы был жив Филипп»…
Отец! Как не хватает тебя!
Лучшим другом старого Филиппа был его ровесник Антипатр; с детских лет они держались вместе, втроем, три побратима и единодумца: Филипп-царь, Антипатр-умник, Парменион-вояка. Втроем создали они победоносную армию Македонии и костяк ее – несокрушимую фалангу. Втроем вымечтали поход в Азию против некогда грозных, но обленившихся персов. Втроем – и словом, и силой! – убедили упрямых и кичливых эллинов признать верховенство Македонии и послужить честно и храбро общему делу.
И вот…
«Он убил Пармениона, сынок…» – мертвым голосом сказал отец, комкая свиток. Глаза его были пусты, а щеки подернулись сероватой желтизной.
Разве только Пармениона?
И Филота был другом детства. Он вел в бой конницу при Гавгамелах. Его пытали. И убили. Потому что не смог заставить себя ползать на брюхе перед престолом Божественного, уподобившись дворовым собакам и курчавобородым персидским вельможам.
Клит Черный был молочным братом. Он грудью закрыл царя от вражьего дротика при Гранике. Его заколол сам Божественный, собственноручно, на пьяной гулянке. Просто так. Чтобы не лез под горячую руку с умными разговорами.
Каллисфен-философ, племянник самого Аристотеля, был мудр и светел душой. Его сгноили в темнице. Заморили голодом. Отдали на съедение вшам и крысам. За то, что посмел вступиться за обреченных…
«Поверь, сынок, – сказал отец, – Филипп не пожалел бы своего ублюдка. За Пармениона он послал бы его на плаху»…
Чем, в сущности, хуже плахи пузырек, выточенный из конского копыта?
– Я был Богом, припадочная мразь, – скрежещет и шелестит Ужас. – А Богу дозволено карать за то, чего не понять жалким вроде тебя…
– Если бы ты был Богом, упырь, ты был бы жив и сейчас! Прочь от меня, исчадие тьмы!
Мгла за окошком понемногу светлеет.
И рассвет, как всегда, приносит облегчение.
Кассандр уже способен шептать.
Как всегда, призванные памятью, пришли на подмогу незабвенные, дорогие, милые тени.
Плечом к плечу – два старца в потертых кожаных панцирях: высоченный, в полтора обычных человеческих роста, сухопарый Парменион и кряжистый, почти квадратный Антипатр, незабвенный отец, почивший наместник Македонии. Седые бороды их ниспадают ниже пояса, как было заведено в дни Филиппа, могучие руки расставлены широко, словно орлиные крылья – преградой Ужасу…