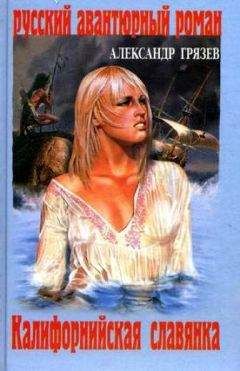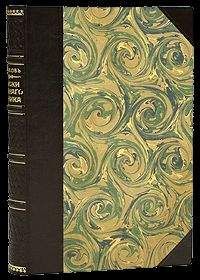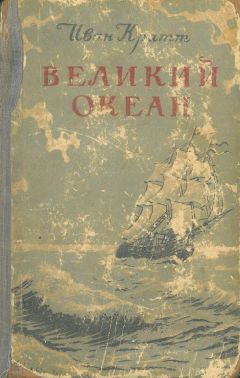Затворив их, он пошёл в караулку, и вскоре с её невысокого крыльца опять полились чудные переборы испанской гитары.
Белая женщина, принесённая индейцами макома с берега океана, лежала в хижине вождя на мягких козьих шкурах. После пережитого в океанских водах ей было тепло и уютно, как не было в её жизни уже долгое время, о котором сейчас и вспоминать-то не хотелось, а хотелось просто лежать и наслаждаться покоем. Поэтому она лишь приоткрыла глаза, когда в хижину почти неслышно вошла женщина с плетёной чашею в руках.
Лицо её не было похожим на лица тех людей, которых она встретила, выйдя из морской воды. Оно было намного бледнее, с чуть раскосыми глазами.
— Где я? — спросила вошедшую женщину, лежащая на ложе.
— О, заговорила! — по-русски воскликнула та и села рядом на корточки.
— Ты глаголешь по-русски? Откуда нашу речь знаешь?
— Я сразу догадалась, что ты русская. Вот откуда только — не знаю.
— С острова Ситхи, что у берегов Аляски. А ты?
— А я с Кадьяка.
— Я тоже там родилась. А как звать тебя?
— На Кадьяке Манефой крестили, а здесь кличут Шака. Отец мой русский зверолов, а мать алеутка. А тебя как зовут?
— Алёна… Как же ты тут очутилась?
— Да как… Взяли меня на острове нашем морские разбойники. Похитили обманом, увезли сюда на своём корабле, а тут продали испанцам, да я сбежала… Давно это было…
— Так где же я? — повторила свой вопрос Алёна.
— В Калифорнии… Слышала про страну такую?
— Конечно. Мой батюшка мореход и с Аляски не раз в эти края хаживал. Эту сторону, говорил он, ещё Новой Испанией зовут. Так?
— Вот, вот… Только испанцы здесь в своей крепости живут, а ты у здешних индейцев племени макома. Они добрые люди и ты ничего не бойся. Они и меня приютили. За свою почитают… А про тебя говорят, что ты к ним из моря вышла. Так?
— Так-то так… Меня тоже пираты на Ситхе схватили, да где-то здесь продать хотели.
— Наверное, в Сан-Франциско. Это в ста милях отсюда на берегу залива есть большая испанская миссия, куда разные корабли заходят.
— Может быть… Только на нас внезапно буря налетела, корабль пиратский разбило, а меня на какой-то доске к прибрежным камням принесло… Слава Богу. Но почему они, индейцы, когда я на берег к ним вышла, то передо мной ниц пали?
— У них недавно умер вождь. Вот по его завету и пошли старейшины с шаманом молиться своему морскому богу, чтобы тот дал им нового. А после моления в священной пещере на берегу они увидели тебя, когда ты из моря выходила. Ты им, говорят, послана самим богом океана. Вот и пали ниц перед тобой, принесли тебя на руках в хижину вождя. Видишь — ружьё его и лук со стрелами.
— А теперь что со мной будет?
— Ничего плохого. Поправишься, и тогда придут к тебе старейшины, будут говорить с тобой. А о чём — мне не ведомо. Теперь отдыхай.
— Но я не больно и устала.
— Всё равно тебе сейчас надо сил набираться. Мне же велено тебя кормить, поить и выхаживать.
— Но для чего? Я ведь тоже с той стороны прибыла, что и ты.
— Им сие не ведомо. Для старейшин макома ты явилась после их долгой молитвы морскому богу.
— Но ведь я — русская. Я — белая.
— Да, ты белая… Старики-индейцы говорят, что когда-то давно тут на берегу реки появились однажды белые люди. Откуда они пришли — никто не знает. Может их судно тоже разбилось в бурю…. Долго ли они тут жили — мне неведомо. Потом пришельцы куда-то делись. Индейцы же макома с той поры почитают белых людей почти что за богов, а место, где пришельцы жили, по сей день зовётся Долиной Белых Людей… Так что, может, они тоже были русскими, славянами.
— Я тебя Маней звать буду?
— Зови… Мне даже лучше, — кивнула Манефа, затем поднялась и направилась к выходу. — А ты, Алёна, поешь, однако… Пойду воды согрею, потом опять к тебе приду.
— Погоди, Маня… А ты никогда не пыталась отсюда уйти?
— А куда же тут уйдёшь? Разве что опять к испанцам.
— Нет… Домой на Кадьяк. Ежели в здешние порты разные суда заходят, то, стало быть, и в нашу сторону идут.
— Нет, не пыталась. Далеко отсюда те порты. Да мне и здесь хорошо. Привыкла… А ты, ужель, обратно домой собралась?
— Я только об этом всё время и думаю.
Алёна повернула голову, закрыв глаза…
Как же ей не думать о родимом доме, о батюшке с матушкой, о братце, о сестрице своей младшенькой, да о любимом своём Ванечке, с которым разлучила её судьба в самый день и час венчания в Божием храме там, на острове Ситха, у берега Аляски.
Да и как ей, родившейся от русских отца и матери, не называть своей родиной скалистые острова вдоль матёрого американского берега за тысячи миль от российских берегов.
Она часто думала о том, когда, как и почему пришли к Аляске русские люди? Почему они, в том числе и её батюшка, называют неуютную ту землю «землёй российского владения». Алёна слышала об этом, но совсем немного, а всего она не знала, да и знать не могла.
…София-Августа-Фредерика, принцесса Ангальт-Цербстская, дочь Христиана-Августа, герцога Ангальт-Цербст-Бернбургского и Иоанны-Елизаветы, принцессы Голштейн-Этинской, а попросту российская императрица Екатерина Вторая Алексеевна проснулась в своей спальне как всегда сразу после шести часов утра. Она сама оделась, прибрала себя, сполоснула лицо холодной водой из умывальника и сама же разожгла, уложенные ещё вечером, дрова в камине.
Екатерина любила эти ранние утренние часы за то, что они принадлежали только ей одной и никому больше. Она знала, что у дверей спальни и других личных комнат дежурят сейчас камердинеры, камермедхен, да камерфрау. Но никто из них не посмеет войти сюда, пока она сама не позовёт их тонким звоном своего серебряного колокольчика.
Да и совсем немного было у государыни Екатерины таких счастливых минут одиночества. Уже к девяти часам у дверей её, убранной к тому времени спальни, соберутся со своими бумагами статс-секретари, обер-полицмейстер, вице-канцлер или столичный губернатор, петербургский главнокомандующий или генерал-прокурор Сената — те, кому в этот день положено быть у императрицы для доклада. С этого самого часа государыня будет весь день среди людей, занимаясь различными делами почти до отхода ко сну где-то часов в десять вечера. Так что ей было за что любить эти первые после пробуждения утренние часы.
Екатерина ещё с юности не любила никакой роскоши ни в одежде, ни в убранстве жилых своих покоев и придерживалась сего правила всегда и по сию пору. Вот и сейчас, надев простой белый капот и такой же белый чепец на голову, она в первый раз позвнила в колокольчик. Тут же отворилась дверь и в её рабочий кабинет вошёл дежурный камердинер, которого она даже и не видела, находясь рядом в спальне. Он молча, как это делал ежедневно, поставил на секретер государыни большую фарфоровую чашку горячего и крепчайшего левантского[1] кофе, да блюдце с гренками и так же молча удалился.