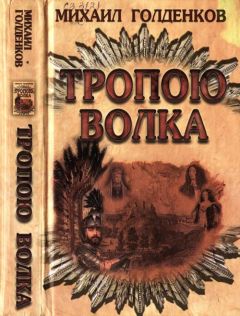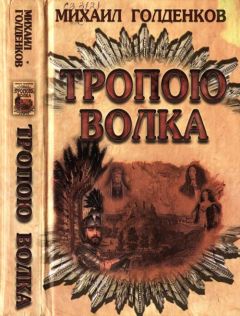Царь впервые сел в карету, которую в самой Москве ранее все презрительно называли недостойным мужчины средством передвижения. Ранее Алексей Михайлович либо ездил верхом, либо царя носили на богато украшенных турецких носилках, как и всех московских государей до него. Но Вильно — европейский крупный город, столица литвинская, русская и жмайтская. Здесь Алексей Михайлович решил соответствовать правилам и приличиям Европы, в культуру которой собирался влить и свое новое государство, придав ему больше европейского лоска. Карету ему подарил какой-то переметнувшийся в московский лагерь литвинский шляхтич. Карета, впрочем, была весьма скромной, из черного дерева, с четырьмя окнами, но царь украсил ее аксамитами и багровым бархатом изнутри, велел декорировать сверху кусками золота… Трясясь в квадратной кабинке, московский государь не мог поверить, что столица Княжества взята так быстро. Внутренний голос говорил ему: что-то здесь не так, врут его царедворцы, что-то скрывают. Или же литвины уготовили ловушку… Со страхом смотрел сквозь запыленное пеплом стекло окна государь Московии, пока его экипаж, запряженный четверкой лошадей, выруливал на красную дорожку, выстланную перед «светлым царем».
Словно по ручью крови въехала карета во все еще горящий город.
Когда монарх медленно, будто боясь упасть, выходил из кареты, придерживаемый, словно старец, под руки фурманами, ему салютовали пушки, чтобы заглушить пальбу у замка в Старом городе. Царь выглядел необычно бледным. На его нездоровом белом лице еще больше чернели запавшие глаза, а темная бородка и усы придавали ему внешность измученного длительным постом молодого монаха. Царь вяло улыбнулся кланяющимся ему до земли людям и слабым тихим голосом спросил куда-то в сторону:
— Где это еще стреляют?
У воевод испуганно забегали глаза. Услышал-таки государь пальбу у дворца!
— Не волнуйтесь, светлый государь, — милостливо отвечали ему, кланяясь в пояс, — весь город салютует вашей светлости! Мы захватили Вильну полностью. Это так, по мелочи где-то пушки бухают. Последних литовцев выкуривают из их чертовых укреплений.
Алексей Михайлович едва заметно улыбнулся. Не то потому, что последних литвин выкуривают, не то потому, что город уже взят.
— Хочу видеть пленных, — устало произнес царь, чуть отвернув в сторону голову, — где они? Где командир гарнизона города?
Лишь сейчас темные очи государя гневно блеснули и уставились в упор в глаза стоящего рядом воеводы. По несчастному воеводе словно ток прошел.
— Не вели казнить! Виноват! — бросился на колени воевода. Но царь словно уже и не видел этого человека — он с вопросом в глазах повернулся к другим. Лишь Черкасский стоял прямо, с легким презрением глядя на бьющегося лбом об землю воеводу. Вольный казак, он терпеть не мог всех этих азиатских замашек московского государя и его челяди. Царя он тоже ненавидел, ненавидел всю эту войну, не понимая, зачем войску Хмельницкого сражаться и умирать в Литве, убивая литвин, а не ляхов. «Будь все по чести и справедливости, мои казачки уже бы в Варшаве саблями звенели о броню ляхскую», — в сердцах думал атаман.
А пленных и в самом деле не было. Разве что трое венгерских солдат, включая их израненного и полуживого лейтенанта. Но эти пленные ни слова не знали по-русски. Обычные наемники.
— Пленные будут, — убедили царя, — приведем!
Глаза царя вновь потухли, гнев исчез, он милостиво кивнул, сделал слабый знак рукой, мол, все свободны, разговор окончен, ведите в палаты.
В тот же день царь написал сестрам и жене в Москву:
«Постояв под Вильною неделю для запасов, прося у Бога милости, пойдем к Оршаве. Обо мне не покручиньтеся. Ей, Бог даст добрый путь и Победу…»
В это время все еще оборонялся виленский замок. Две московские пушки били в дворцовые стены и ворота. Десятого августа казаки подтащили третью пушку, четвертую, потом пятую. Еще две английские гаубицы подкатили два стрелецких артиллерийских расчета. Гаубицы стреляли разрывными снарядами, прицельно и навесно… Стены содрогались от нескончаемых ударов осадных ядер, сыпалась с потолка штукатурка, падали, разбиваясь на мелкие блестящие кусочки, люстры, чугунные решетки с грохотом вываливались из разбитых окон, а на стенах, никем не снятые, висели портреты виленских шляхтичей, великих князей Литвы, посеченные пулями и осколками ядер… Через окна, сквозь бреши в стенах, через двери ядра пролетали и разрывались внутри здания, неся смерть его защитникам. Пули свистели вокруг, словно мухи на конюшне.
В угол забился, испуганно бормоча «Барух Адонай Алонэу», еврейский торговец. Он был из числа тех наивных жителей Вильны, которые полагали, что война пойдет по-европейски: придет захватчик, ему вручат ключи от города, и все жители поменяют государственную прописку… Из всей своей многочисленной семьи несчастный торговец спасся один, унося ноги от разъяренной толпы казаков. Он случайно схоронился в замке вместе с отступающими ратниками Казимира Жаромского. Поначалу еврей помогал подносить ядра и перевязывать раненых, но вот уже молчат обе пушки литвинских татар. Все завалено трупами. Из почти сотни человек, защищавших первый этаж, осталось менее двадцати бойцов. Казаки за это время потеряли более двухсот человек.
Новые порции гранат полетели в окна, на крышу, вновь ударили пушки московитян и затрещали их мушкеты… В замке начался пожар, дым от огня и разрывов гранат и ядер, пыль от падающей штукатурки заполнили комнаты и залы. Обороняться становилось все сложнее. Пыль с пороховым дымом и известкой застилала глаза, лезла в горло и нос. Обороняющиеся стали задыхаться. Особенно на первом этаже — здесь оставаться было уже невыносимо.
— Воздуха! — кричали ратники Нурковича и Карачевича. — Мы задыхаемся! Выходим наружу!
— Нет! Наверх! Все наверх! — приказывали своим солдатам татарские шляхтичи. Взрыв очередного ядра сразил наповал Нурковича. Трое человек подхватили окровавленное тело своего командира и потащили вверх по заваленной обломками кирпича и расплющенными оловянными пулями лестнице. Упал Фурс-Белицкий. Его тоже подняли — осколки пробили ему икру ноги, бок и поранили лицо. Хромая, устремился вслед за отступающими еврейский торговец, прихватив валяющийся на полу мушкет. Правда, пуль уже ни у кого не было.
Но и на втором этаже, где оборонялся сам Жаромский, было не лучше. И здесь клубы пепла, дыма и пыли заволокли все вокруг. И здесь не хватало воздуха, и солдаты выбивали в окнах остатки крашеного стекла. Бах! Бах! — лупили снаружи пушки. Замок вздрагивал, на пол летели кирпичи и куски штукатурки, падали убитые литвинские ратники, из камина центральной залы вываливалась зеленая кафельная плитка, разбиваясь об пол в куски. Стало темно от дыма и пыли, мушкетеры и ополченцы во мраке пороховых облаков не могли больше заряжать мушкеты, кашляли от забивающегося в легкие дыма. Сумятица и растерянность начали перерастать в панику.