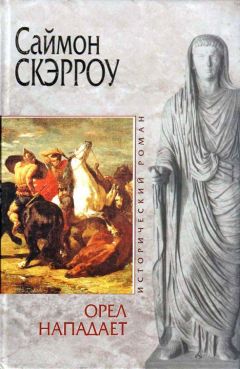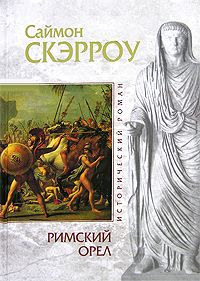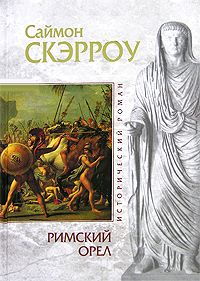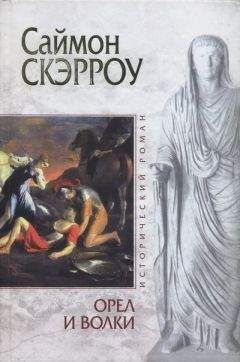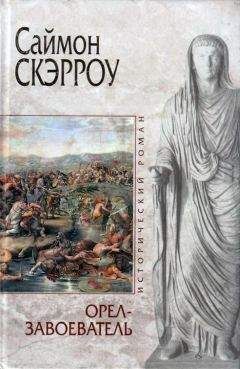Предводители дуротригов, видимо слишком уж понадеявшиеся на меткость своих пращников и прочность завала, разместили за нагромождениями стволов одних только легковооруженных бойцов, тогда как тяжелая их пехота атаковала римский строй с тыла. Поэтому вряд ли стоило удивляться, что защищенные надежными доспехами римляне без большого труда разметали первые ряды перекрывавшего им дорогу заслона, на ходу перестраиваясь из штурмовых колонн в боевые шеренги. Ничем не защищаемые, кроме своих мечей, дуротриги при всей их отчаянной смелости не могли воспрепятствовать осуществлению этого маневра. Очень скоро прорвавшиеся в разных местах римские подразделения сомкнулись флангами и образовали сплошной атакующий фронт по ту сторону баррикады. Бритты, уже имевшие дело со смертоносной неодолимостью римского строя, вмиг прекратили сопротивление и ударились в бегство.
Глядя им вслед, Катон опустил меч и вдруг поймал себя на том, что весь дрожит мелкой дрожью. То ли от страха, то ли от крайней усталости — этого он уже не знал. При этом его рука стиснула рукоять меча так, что пальцам сделалось больно, но ослабить хватку удалось лишь усилием воли. Потом к нему вернулась способность более четко воспринимать окружающее, и он увидел, что перед прорвавшимися сквозь заграждение легионерами образовался новый завал — из вражеских тел. Некоторые варвары еще корчились и кричали.
— Первая и Шестая центурии! — прозвучал громовой голос Гортензия. — Продолжить движение еще на сто шагов! Еще сто шагов, и всем встать!
Линия римлян переместилась чуть дальше, фланговые центурии боевого квадрата и обозные подводы втянулись в проемы, за ними прогнали, как стадо, внушительную толпу пленных, в результате чего на почти оголенной стороне завала остались лишь две тыловые центурии, медленно отходившие под натиском дуротригов. Как только Шестая остановилась, Макрон велел Катону по-шустрому пересчитать личный состав.
— Ну что?
— Насколько могу судить, командир, мы потеряли четырнадцать человек.
— Ладно, — кивнул Макрон, опасавшийся, что потери окажутся куда более ощутимыми. — Ступай, доложи Гортензию.
— Есть, командир.
Отыскать Гортензия не составило никакого труда. Пусть его голос от крайней усталости и осип, однако властной раскатистости он ничуть не утратил. Выслушав доклад, Гортензий мысленно что-то прикинул.
— Значит, мы потеряли около полусотни солдат, и это без учета потерь арьергарда. Сколько еще до рассвета, как думаешь?
Катон попытался сосредоточиться.
— Мне кажется, часов пять.
— Плохо. Каждый меч будет нужен. Значит, пора ставить в строй караул.
Старший центурион насупился, всем своим видом показывая, что выбора у него нет.
— Нам придется избавиться от захваченных дуротригов, — произнес он с нескрываемой горечью.
— Командир?
— Отправляйся обратно к Макрону. Передай, что ему или тем, кого он назначит, вменяется в обязанность перебить пленных. Тела пусть бросят вперемешку с телами их соплеменников, убитых в бою. Сейчас не тот момент, чтобы лишний раз злобить варваров. Чего ты ждешь, парень? Ступай!
Катон отсалютовал и побежал обратно к центурии. Когда он огибал толпу жалких, трясущихся, перепуганных дикарей, его чуть было не стошнило, и он выругал себя за дурацкую, позорящую солдата чувствительность. Ведь разве не эти самые варвары беспощадно казнили всех бедолаг, имевших несчастье попасться им в лапы? Причем не просто казнили, а подвергали ужасным мучениям, видимо наслаждаясь страданиями своих жертв.
Лицо мальчика с льняными волосами и невидящими, широко распахнутыми глазами, валявшегося поверх груды изрубленных тел, снова всплыло перед его мысленным взором, и у него защипало в глазах. Однако слезы эти породила теперь не праведная, взывающая к отмщению ярость, а глубокая, невесть откуда пришедшая, но целиком охватившая его душу печаль. Казалось, еще недавно он желал смерти всем, сколько бы их там ни было, дуротригам, однако едва речь зашла о необходимости хладнокровно расправиться с горсткой захваченных в плен дикарей, как что-то внутри него, вопреки логике, заставило его считать это отвратительным, недостойным деянием.
Макрон, выслушав приказ, тоже заколебался.
— Перебить пленных?
— Так точно, командир. Прямо сейчас.
— Понятно.
Подавленный вид оптиона не укрылся от ветерана, и он мигом принял единственно правильное решение.
— Я сам займусь этим. А ты оставайся здесь. Следи за порядком и смотри в оба. Не ровен час, эти туземцы по своей тупости опять решат намять нам бока.
Катон прилежно уставился в пространство, где царствовали мрак и сплошь истоптанный дуротригами снег, а когда сзади послышались жалобные молящие вопли, постарался выбросить эти звуки из головы.
— Смотреть по фронту! — крикнул он тем из солдат, которые было дернулись поглазеть на затеянную за их спинами кутерьму.
Наконец стоны и вопли утихли, после чего опять стал слышен шум боя, который вели тыловые подразделения. Молодой оптион стойко ожидал новых распоряжений, оцепеневший, продрогший, раздавленный бременем сопричастности к кровопролитию, только что совершенному по приказу старшего офицера. Хотя эта мера, вне всяких сомнений, повышала боеспособность когорты, а значит, и ее шансы спастись, и хотя все участники беспрецедентной расправы над жителями Новиомага, безусловно, заслуживали любой мыслимой кары, хладнокровное убийство безоружных людей все равно казалось ему чем-то не имеющим оправдания.
Макрон, неуклюже протиснувшись в первую шеренгу Шестой, с угрюмым видом встал рядом с Катоном, и юноша украдкой бросил на него вопросительный взгляд. За время службы он неплохо изучил своего командира, научился ценить его как солдата и, что, быть может, важней, как прямодушного и порядочного человека. Конечно, Катон и мысленно не решился бы назвать такого бравого и бывалого воина своим другом, но отношения между ними определенно выходили за рамки служебных. То были отношения близких людей, где старший опекает того, кто помладше, а младший с готовностью смотрит на старшего снизу вверх. Катон знал, что Макрон не без гордости отмечает про себя даже самые малые его достижения в освоении воинского ремесла.
Самому же Катону Макрон казался воплощением всех тех воинских и человеческих качеств, какие он лично всемерно стремился приобрести. Центурион жил в ладу с собой. Он был солдатом до мозга костей и не имел никаких прочих амбиций. Кроме того, у него напрочь отсутствовала склонность к мучительному самокопанию, так портившая жизнь юнцу, выросшему при римском дворе. Образование, полученное там Катоном, не годилось для службы в армии. Совершенно не годилось. Почерпнутое у Вергилия возвышенное представление о благородной миссии Рима, призванного цивилизовать весь мир, плохо вязалось с ужасами бесконечных сражений или хотя бы с этой вот кошмарной логикой ночного боя, диктовавшей необходимость убийства сотни беспомощных пленных.