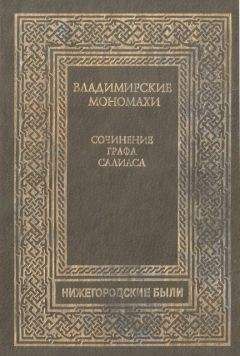На другой день Людовика, конечно, точно так же не могла указать директору ни на кого из таких влиятельных лиц, которые пожелали бы хлопотать за нее.
Единственный человек, о котором она вспомнила, который относился к ней не просто как к ученице, а сочувственно, дружески, был музыкант Майер.
Директор невольно вздохнул и даже слегка пожал плечами. Он слыхал о Майере как о даровитом музыканте… Но чем может пособить горю бедный музыкант, живущий уроками и концертами, которые изредка устраивает в Киле?
Прошла неделя, другая, наконец, целый месяц после того, как Людовика была привезена в сумасшедший дом, а положение ее было все то же.
Директор говорил ей, что он наводит справки, расспрашивает, хлопочет и надеется на успех; но Людовика чувствовала, что старик директор просто утешает ее и что таким образом пройдет и год, и несколько лет.
За это время Людовика переменила несколько свой образ жизни. Сначала она упорно сама отказывалась выходить из своей комнаты: какое-то странное чувство стыда удерживало ее в горнице. Ей казалось позорным появляться на глаза кого-либо из прислуги и даже на глаза других обитателей дома, то есть сумасшедших. Она не могла перенести мысли, что кто-либо посмотрит на нее как на сумасшедшую. Но понемногу привычка взяла верх, и тоска сидеть в четырех стенах маленькой комнаты заставила наконец Людовику согласиться на увещания директора и начать выходить гулять.
Он позволил ей свободно ходить по всему дому и в большом саду, но на это Людовика не согласилась и объяснила причину очень просто. Она боялась именно тех, к которым ее предательски причислили…
Тогда директор предложил ей гулять в отдельном маленьком садике, лично ему принадлежащем, где она может встретиться только с тремя женщинами.
– Они, – сказал он, – почти в таком же положении, что и вы, то есть их считают сумасшедшими, но в действительности они менее вредны обществу, чем многие гуляющие на свободе.
И в первый раз с горьким чувством стыда и с тревогой в душе Людовика спустилась в маленький садик.
Она невольно опускала глаза при встрече с кем-либо из прислуги или со смотрителями и смотрительницами дома.
Мысль, что они глядят на нее как на безумную, жгла ей сердце. Но Людовика на этот раз ошиблась. Она не знала, что в сумасшедшем доме уже давно тайно известно: кто она и каким образом попала в этот дом. Вдобавок каждый взиравший теперь на нее был невольно поражен ее красотою и невольно сочувствовал ее положению.
В первый раз, как Людовика собралась погулять, она вышла очень рано.
В саду директора не было никого. Рядом, за высокой стеной, раздавались голоса мужчин.
Людовика знала, что это мужское отделение, знала, что за этой стеной разговаривают сумасшедшие, и робко, но любопытно прислушивалась к этим голосам, ожидая ежеминутно чего-нибудь чрезвычайного. Ведь это все безумные, способные на все и на убийство…
Но прошло довольно много времени, а она, кроме мирных бесед за этой стеной, ничего не услыхала. В особенности занял ее один голос. Очевидно было, что двое сумасшедших сидели на скамейке за забором и мирно беседовали, а один из них молодым, звучным голосом рассказывал другому. Но этот рассказ был, в сущности, очень интересная лекция из астрономии.
Замечательно образованная Людовика, знавшая многое, знала и то, что рассказывал этот сумасшедший.
Он подробно объяснял своему собеседнику о строении земного шара, светил, о законах движения комет.
Людовика слушала со вниманием и невольно спросила себя раза два:
– Неужели это говорит сумасшедший? Неужели же здесь, в этом доме, так много лиц, которые попали сюда так же, как и я, которых враги предательски засадили здесь?
И она уже с грустным чувством продолжала внимательно прислушиваться к этому голосу.
На несколько мгновений она задумалась о себе самой; но тот же голос, начинавший звучать громче, с какой-то страстью, заставил ее снова прислушиваться.
– Но все это происходит от капитального недостатка в творении, – звучал голос. – Творец сделал великую ошибку… Все это нам только кажется и нас сбивает с толку; в сущности, мировое бытие совершается совсем наоборот… Упорным трудом я дошел до этого… Я сделал великое открытие, которое увековечило бы мое имя. Я знаю, что я выше Коперника или какого-нибудь болвана Галилея… Я понял ту простую истину, что для того, чтобы правильно созерцать мир божий, Вселенную и все ее явления, нужно только одно… И вот, видите, я это сделал.
– Как?! – воскликнул другой голос.
– Так вы видите. Я сам выколол себе глаз, и теперь одним глазом я вижу все и понимаю так, как другие люди понять не могут. Следовательно, спасение человечества в том, чтобы каждый человек потерял непременно один из двух глаз. Я хотел начать проповедовать это, пожертвовать собою для примера, и мне удалось уже склонить двух человек. Мы втроем хотели продолжать эту новую истинно евангельскую проповедь, когда вдруг враги мои и завистники схватили меня и засадили сюда, объявив, что я сумасшедший… Но я надеюсь, что я и здесь сумею обратить в мою веру и сделать много прозелитов… Вы увидите, молодой человек, что после нескольких бесед со мною вы сами захотите выколоть себе один глаз.
Людовика, слыша это, невольно горько усмехнулась.
Между тем после утреннего завтрака, от которого Людовика отказалась в этот день, в саду одновременно появились три женские фигуры. Это были те самые личности, о которых предупреждал ее директор.
Людовика смутилась от этого нового знакомства. Она готова уже была скорей бежать к себе.
Одна из этих женщин была высокая, худая, уже лет пятидесяти. В ее осанке, в поступи было что-то спокойно-важное, даже величавое. Женщина эта была, вероятно, из самого высшего общества.
Увидя Людовику, она тотчас покинула двух других, подошла к ней, любезно поздоровалась, села около нее и начала беседовать с ней так, как если бы они встретились не в этом доме, а говорили бы в гостиной у знакомых.
За ней подошли и другие – одна лет двадцати пяти, красива, с замечательно кротким лицом и прелестными глазами. Она заговорила так кротко, так смиренно и тихо, что Людовика с трудом могла расслышать слова.
Третья была еще полуребенком, с бледным, худым лицом, с болезненным видом. Сухой кашель, заставлявший ее по временам прижимать к груди обе руки, придавал ей еще более жалкий вид.
Усевшись все вместе около Людовики, они разговорились.
Из беседы с ними Людовика узнала, что две, так же как и она, совершенно незаконно, предательски содержатся в сумасшедшем доме. Только одна больная девочка ни слова не говорила.
Пожилая женщина, обещавшая Людовике рассказать свою ужасную судьбу, прибавила: