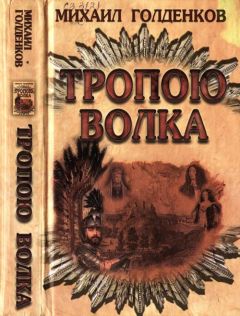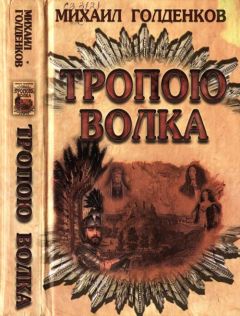— Эхе-хе, — сокрушенно крутил Кмитич головой, все еще держа рушницу, — такую, поди, заряжать долго.
Стрелец грустно кивнул:
— Да, не шибко.
«С таким вооружением и обучением и не одолеть московскую армию? — думал Кмитич и сам же себе отвечал. — Но их много, у них много казаков и татар, а те воевать умеют. Да и наемников немало. Все же трудно нам будет противостоять армаде царской».
Что касается марийца Ваньки Пугоря, то Корф не захотел его брать, и Кмитич пристроил парня в помощь к своим пушкарям. Ванька старался: подносил ядра, чистил банником стволы, советовал канонирам, куда лучше стрелять… «А такой заморыш, потому что не кормили его хорошо у царя», — думал Кмитич, глядя на нового помощника…
Как только Кмитич собрался совершить прорыв из города в подменном платье стрельца и уже попрощался с плачущей женой, на горемычный Смоленск обрушился новый интенсивный обстрел, да такой, что невозможно было носа высунуть в проем между зубцами стены. На глазах у хорунжего некий защитник, хлебнув для храбрости медовухи, пытался выстрелить из пищали по врагам, но едва он вышел из-за зубца, как, охнув, тут же осел. Картечь пробила ему грудь…
Стрельба не стихала и всю последующую ночь. Лишь утро было спокойным, но Кмитич его проспал, уронив голову на лафет пушки, утомленный бессонной ночью. Днем весь этот ужас повторился.
Наступил жнивень — месяц, когда литвинские крестьяне надевают свои соломенные шляпы-брыли и берут в руки косы. Оно и сейчас многие, кого война пока не коснулась, принялись скашивать золотистую рожь да пшеницу. Иные же переделывали свои косы в пики, ибо с востока шли другие жнецы, собирающие другую жатву.
Еще мальчишкой Кмитич любил наблюдать, как высокие парни, голые по пояс, с бронзовыми блестящими на солнце спинами косят конюшину в соломенных брылях на головах. Да и сам он любил самозабвенно и решительно срезать острым лезвием косы стебли ржи, представляя, что рубит острой саблей врагов. Сейчас же в окрестностях Смоленска стояли неубранные поля, а косари, сидя с мушкетами в руках за городским валом, горестно обсуждали загубленный урожай.
— В августе мужику дохнуть нельзя, — говорил какой-то ратник с берендейкой через плечо и мушкетом в руках, — надо косить, пахать и сеять. А тут… — и он в сердцах сплевывал.
— Верно, — поддакивал его товарищ, видимо, тоже деревенский мужик, — что в августе соберешь, с тем и перезимуешь. Гамон нам всем зимой, коли москали не уйдут. Уж точно, не сядем мы этим летом на последний сноп, не выпьем гарелки и не споем:
Рада, рада, наша перапелочка,
Што лета даждала — рада, рада…
И у мужика заблестели от слез глаза.
Иной урожай волновал московского царя, невольно исполнявшего один из стихов «Откровения»: «И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата…» Смоленск, впрочем, не желал становиться жатвой царского серпа. В московской армии судорожно принимались меры. 7-го августа москвитяне попытались устроить окоп на берегу Днепра, для чего обстрел города был особенно интенсивным. Однако Кмитич в подзорную трубу рассмотрел сей маневр и приказал канонирам открыть огонь. Пушки заговорили, их ядра ложились точно, и московитяне отступили, понеся значительные потери.
И вновь Кмитич отложил свой отъезд: в полночь московское войско, придвинув близко к стенам полевые пушки, стало готовиться к штурму со стороны Днепра. Но смоленская пехота, вместе с немецкой и польской стоявшая наготове по всем северным приднепровским кватерам, сильным огнем отразила эту попытку. Уволакивая убитых и раненых, московитяне ушли, так и не осуществив своего плана. Вновь раздражался царь и корил своих воевод, что их обещания о быстрой сдаче Смоленска и о плохом состоянии смоленской фор-теции не сбылись. Из речей царя исчезли благодушные нотки в адрес своей армии, он уже не улыбался милостиво своим полковникам и воеводам. Отросшая темная борода придавала смуглому лицу государя Московского еще больше мрачности, особенно когда он злился. В то время как от Шереметева и Трубецкого приходили обнадеживающие вести, он сам с почти 150-тысячной армией стоял уже второй месяц под Смоленском, неся ощутимые убытки в людях, лошадях, пушках, провианте. Царь отписал заказ в Тулу на отливку новых ядер и орудий.
Государь собирал в своем шатре на Девичьей горе Долгоруковых, Хованского, Зубова, Волконского, Хитрова, Мило-славского, Гипсона и прочих и уже обращался к ним куда как более резко, требовал результатов, заставлял принимать меры и даже угрожал. И воеводы московские вновь бросались на штурм. 10-го августа они поставили на месте разбитого ядрами новый гуляй-город за Еленскими воротами. Целый день, с семи часов утра до самого вечера осажденные били сюда из пушек, московитяне отвечали, но огонь защитников города по пристрелянному месту был явно более эффективным: подвижные укрепления гуляй-города разлетались куски. Но и Смоленск нес ущерб. От беспрерывной пальбы одна башня обрушилась, а другая, видимо, сильно поврежденная ранее, от грохота и сотрясений с ужасным шумом развалилась сама по себе, и в ее руинах уже никто не осмеливался стоять. Были разбиты также две соседние кватеры Оникеевича, который, тем не менее, не прекращал шутить и подбадривать своих солдат. На других кватерах и башнях были сбиты зубцы и разрушены стоявшие на стенах избицы.
— Этой ночью будь наготове, — сказал как-то Обухович Кмитичу, — нам нужна помощь от Радзивилла, и только на тебя надежда. При первом же перерыве между канонадами уезжай из города. Или сейчас, или уже никогда не уедешь, — и он, впервые за последнюю неделю улыбнувшись, добавил: — хватит с меня неприятностей с гетманом. А Смоленск не так уж и плох, как я думал…
Сходя со стены, Кмитич увидал внизу, во дворе, среди разбитых лафетов, поломанных досок, бочек и носилок с ранеными Елену. Она сидела на корточках в своей красной юбке и ловко перевязывала ногу ратнику, который лежал на носилках и корчился от боли. Удивительно, но чепец девушки был вновь белым и чистым.
— И когда же ты только успеваешь еще и за одеждой следить? — улыбаясь, спросил Кмитич, поравнявшись с Еленой. Та встала, тоже улыбнулась ему, утирая пот со лба тыльной стороной запястья.
— День добры, пан Самуэль! Рада, что вы все еще живы.
— Постой, — удивился князь, — я же тебе пока не представлялся!
— А я и так знаю, кто вы. Я и вашу Маришку-дурочку знаю! И брата вашего читала. Хорошо писал!
— Даже так? — еще более удивился Кмитич, разглядывая привлекательное лицо девушки и проглотив слово «дурочка» в адрес Маришки. Оно, лицо этой блондинки, правда, несколько осунулось, и волосы стали почти пепельного цвета от пороха, дыма и солнечных лучей, но чуть раскосые глаза все так же голубели на ее загорелом лице, все так же смотрели таинственным насмешливым взглядом.