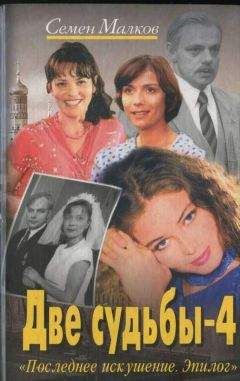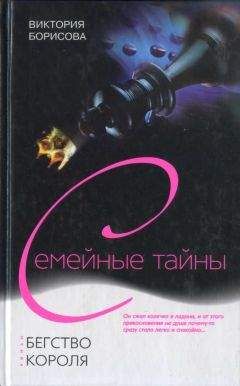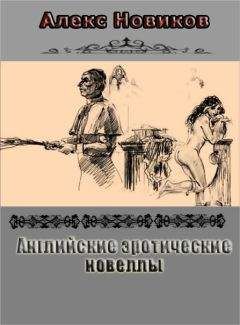— Не сяду! отвечал батько Пугач, стоя посреди светлицы.
— Отчего ж не сядешь?
— Оттого, что у тебя добрым людям такая честь, як собакам.
— О каких это людях ты говоришь?
— Да хоть бы и о тех, что за воз дров платят по пяти пар волов. Да вот и они сами идут поклониться твоей панской милости.
Дверь отворилась, и несколько человек нежинских мещан вошло в светлицу.
— Ну, скажи, продолжал Пугач, за что ты заграбил у них скот?
— За то, чтоб не рубили моего лесу.
— Да ведь они не в твоем лесу рубили, а в городовом.
— В городовом, ей Богу, в городовом! говорили мещане, кланяясь Пугачу и Гвинтовке.
— Вот славно! сказал Гвинтовка. С которого это времени моя займанщина сделалась городовым лесом?
— Да это, пане, по твоему она твоя, а по нашим магистратским записям она наша, Бог знает с какого времени. Еще как только батько Хмельницкий выгнал ляхов из Украины, то зараз и дал нам привилей «осягнуть под город Нежин поля, леса и сеножати, якии сами улюбим», и до сих пор стоят еще знаки, что постановили наши бургомистры.
— Это-то мы знаем, возразил запальчиво Гвинтовка, — это мы знаем, что вы того только и глядите, как бы поймать лучший кусок из казацкой добычи. Казакам тогда было не до займанщин, казаки тогда бились с ляхами понад Случью, понад Горынью, да тонули в литовских болотах; а вы, сидя дома, с своими мордатыми бургомистрами, повыкраивали себе самые лучшие куски из Украины! Так нет же! Казацкая сабля больше и значит, нежели бургомистерская патерица [97]. Пан полковник нежинский позволил мне занять займанщину под Нежином на конский бег; я целый день с своими казаками не вставал с коня, и теперь никто не в праве говорить, что это не мое доброе!
— Послухай, пане князю, ты старого Пугача, сказал, запорожец. Пускай мещане кое-чем и поживились от казаков в польскую заверуху; да уже ж и казаки начали теперь прибирать мещан добро в свои руки! Засевши в их магистраты и ратуши, ваша старшина орудует их войтами, бургомистрами и райцами, как чёрт грешными душами. Коли полковник дал тебе займанщину в мещанских лесах, ну, и называй их своими, только отдай этим добрым людям волов.
Задумался на мгновение Гвинтовка, но взглянувши на Шрама, сказал решительно:
— Нет, пане отамане, пусть они ищут их у своих бургомистров, что поделали знаки в моих лесах; а я докажу им, что я в своем добре пан, и этим безшабельным хамам поуменьшу пыхи.
— Дурни вы, дурни с своим панством, да еще и не каетесь! воскликнул батько Пугач. Погодите, скоро придет время... не помогут вам ни ваши сабли, ни ваши грамоты, что повыпрашивали вы себе у короля, лижучи сенаторам руки! Детки мои! так обратился батько Пугач к мещанам, плюньте вы и на его панство, и на волов. Мы скоро воротим вам все десятерицею.
— О, спасибо ж тебе, батько наш! воскликнули мещане, что хоть ты за нас вступился! Просим же до нас на вечерю, просим до нашей простацкой господы! и мы сумеем угостить тебя так, что не будешь голоден. Прощай, пане князю! Прйде и на нашу улицю праздник!
— Постой, пане отамане! сказал Гвинтовка батьку Пугачу. Я не хочу с тобою ссориться за этих лычаков. Пусть берут своих волов, да убираются к нечистому; а ты оставайся у меня вечерять.
— Не до вечери теперь нашему брату, отвечал батько Пугач. Довольно нам теперь работы и без вечери. Скоро будут наши сюда под Нежин. Вот едут уже царские бояре, мы их до Переяслава не допустим. Хорош город и Нежин для черной рады. Так нам уже теперь не до вечери.
И вышел из светлицы. Но на дворе казаки Гвинтовки слышали, как он сказал мещанам: — Чтоб их нечистый взял с их вечерею, этих панов окаянных! Пойдем лучше к вам, детки!
И мещане едва не на руках унесли батька Пугача.
Гвинтовка остался перед Шрамом в самом затруднительном положении: он чувствовал, что Шрам разгадал теперь его, а между тем ему жаль было и расположенности батька Пугача.
При наступающей с разных сторон буре, он старался в обеих враждующих партиях заготовить себе опору, чтоб, в случае перевеса той или другой, не пострадать вместе с прочими. До сих пор он умел ладить со всеми; но теперь размолвка с батьком Пугачем сделала его как бы сторонником Сомка, а это было ему совсем не по душе: он любил отпустить молодецкую фразу там, где говорили о родине и казацкой славе; но когда дело принимало серьезный ход, и нужно было рисковать имением и жизнью, там панство тотчас брало в нем перевес над патриотизмом.
Разные тревожные мысли терзали его душу; однакож он усиливался казаться радостным, и веселою беседою старался оживить свой ужин, за который все принялись теперь с постными лицами. Но ни его приветствия, ни поддельный восторг не имели никакого действия на старого Шрама, а при его нахмуренных бровях, отягощенных смутными думами, и всем другим было как-то жутко.
Гвинтовка вышел наконец из себя, и, не зная, на ком выместить свою досаду, напал на бедную княгиню, которая подавала на стол кушанья. Все ему не нравилось, все находил он сделанным по-лядски. Несчастная женщина дрожала, как былина в поле от ветру, и второпях опрокинула на стол коновку с наливкою. Это взорвало гнев её мужа, который, казалось, только и ждал чего-нибудь подобного, чтоб излить на нее всю свою злобу.
— Чёртова кровь! вскричал он и толкнул ее так сильно, что бедная княгиня упала и осталась без чувств посреди светлицы.
— Гей, черти! хамы! закричал Гвинтовка, возьмите к бесовой матери отсюда эту лядскую падаль!
Несколько девок выбежали из боковой двери и унесли полумертвую свою пани.
Черевань при этой сцене посматривал на Шрама, что он скажет, но Шрам, по-видимому, ничего не замечал.
После ужина он объявил хозяину, что завтра на заре едет в Батурин, а Петра оставляет у него в хуторе, как еще слабого после болезни.
С тем и разошлись все спать.
Здоров, здоров, пане Саво!
Як ся собі маеш?
Добрих гостей собі маеш —
Чим их привитаеш?
— Ой дав бы вам меду и вина —
Не схочете пити:
Ой ви ж мене молодого
Хочете згубити!
Народная песня.
Петро, проснувшись на другой день, пошел в конюшню и не нашел уже там отцова коня. Еще на рассвете уехал неутомимый Шрам. Тяжело было на сердце у Петра: его преследовала все одна мысль. Прежде, бывало, его мучила холодность гордой красавицы, потом ревность к счастливому сопернику: теперь он знал, что его любят: это с одной стороны его радовало, но с другой — он тем больше мучился, что должен был отказаться от любви добровольно. Уважение к отцовской воле и к правам обрученного жениха было в нем так сильно, что у него не мелькнула в голове даже и мысль своевольно овладеть Лесею. Он, напротив, решился всячески от неё удаляться и при первой возможности вступить в воинское запорожское братство, чуждающееся женщин.