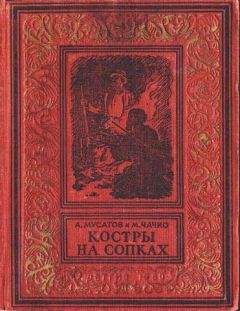Прайс поднялся, давая этим понять, что военный совет закончен.
Все покинули кают-компанию. Прайс остался один. Ему не спалось. Что же завтра предпримут русские, как они себя поведут? Он думал о том, какие выгоды или невыгоды в его личной карьере может иметь сражение у этих пустынных русских берегов. Если победа — он получит повышение, поместье, славу. А если поражение? Нет, поражения не может быть, не должно быть, это противоречит всякому здравому смыслу… Как могут русские со своими слабыми силами нанести поражение такой хорошо вооруженной эскадре! Это немыслимо!..
Приближался рассвет. До начала боя Прайс решил покончить с пленными.
Адмирал вышел на палубу. На востоке в безбрежной дали океана теплилась робкая заря, город и горы еще были в полумраке.
Прайс приказал выстроить на баке взвод стрелков, приготовить две виселицы и привести пленных.
Адмирал внимательно следил за тем, как матросы приспособили к рее две веревки с петлями, как подставили под виселицей большой ящик… Точно шли приготовления не к убийству людей, а к веселому представлению.
В окружении конвойных на палубу поднялся Николай Оболенский, потом привели избитого Сунцова.
При виде Оболенского обезображенное лицо матроса просветлело:
— Ваше благородие… спасибо вам…
— За что же, Сунцов?
— Тут на вас такое клепали… А я ведь верил вам… верил…
— И я тебе верил. Мы же, Сунцов, русскими родились, русскими и умрем! — горячо шепнул Оболенский.
Он понял, зачем их так рано подняли, и сейчас думал только об одном: не дрогнуть в смертный час, не показать врагам слабости, вести себя как должно…
Лейтенант и матрос стояли близко друг к другу, их плечи и руки соприкасались. Наручники с них сняли еще раньше, и они радовались этому, точно обрели свободу.
Прайс некоторое время молча наблюдал за ними, потом обратился к Оболенскому:
— Для размышлений у вас было много времени. Я жду определенного ответа. Имеете ли вы что мне сказать?
— Я скажу сегодня то же, что и вчера: родиной не торгую!
— Громкие фразы! — презрительно отмахнулся Прайс. — В последний раз предлагаю вам одуматься… Вы получите жизнь, свободу, деньги… Вам незачем возвращаться в Россию. С деньгами вы везде сможете делать успехи.
— Что он говорит? — спросил Сунцов Оболенского. — Что он хочет? Скорей бы кончал!
— Деньги предлагает, жизнь за измену…
— Гадюка! — не то с презрением, не то с гневом сказал Сунцов и огляделся.
Ящики с зарядами и порохом привлекли его внимание. До них было не более десяти шагов.
— Попрощаемся, родной! — с нежностью проговорил Николай, обернувшись к Сунцову. — Был ты мне как брат… — Огоньку! Огоньку бы! — горячо зашептал Сунцов. — Огоньку!
Николай со страхом и недоумением посмотрел на матроса. Неужели Сунцов, испугавшись казни, сошел с ума? Неужели не смог найти в себе силы достойно встретить смерть?
А матрос, не выпуская руки Николая, шептал:
— Табачку для меня попросите, покурить перед смертью.
Николай понял, что Сунцов не бредит. Он обратился к Прайсу:
— Мой товарищ просит дать ему закурить перед казнью.
Прайс усмехнулся. Он подумал, что русский, испугавшись, хочет оттянуть страшную минуту.
По приказанию адмирала, английский матрос передал Сунцову папироску и дал прикурить.
Сунцов глубоко затянулся, так что огонек на конце папиросы ярко запылал. Затем он быстро шепнул Оболенскому:
— Прощайте, Николай Алексеевич! Помирать так помирать!
И с этими словами Сунцов прыгнул в сторону, туда, где стояли ящики с порохом… Еще мгновенье, и он бы осуществил свое намерение, но Паркер, настороженно следивший за каждым движением смертников, успел перехватить Сунцова и железной палкой ударил его по голове.
Сунцов рухнул на палубу.
И только теперь Николай понял, почему Сунцов попросил папироску: он хотел зажечь порох и взорвать фрегат.
Крикнув что-то нечленораздельное, Николай Оболенский бросился на помощь товарищу. Английский матрос ударил его кулаком и сшиб с ног. Николай отлетел в сторону, но тотчас же поднялся и, оглянувшись, бросился к борту…
В воздухе прозвучало несколько выстрелов. Когда дым рассеялся, пленника на борту фрегата уже не было. Офицеры и матросы бросились к борту, взглянули вниз: в волнах ничего не было видно. Вероятно, человек, которого должны были повесить, нашел смерть в океане.
Рассвирепевший адмирал приказал вздернуть Сунцова на виселицу. В это же утро Прайс казнил и людей с русского баркаса. Никто из них не попросил пощады, не унизился перед палачами.
…Наступал рассвет. Прайс велел убрать виселицы и отдал приказ эскадрам выстраиваться в боевую линию.
В эту ночь почти никто не спал на батарее капитана Максутова. Огней не жгли, и солдаты, укрывшись шинелями, то вполголоса переговаривались между собой, то молчали, задумчиво глядя на темное небо, полное крупных ярких звезд.
О предстоящем наутро деле никто ничего не говорил. Не было слышно ни шуток, ни смеха. Даже комендор Аксенов, любивший веселье, отвечал на вопросы товарищей серьезно, обстоятельно.
Максутов, хотя твердо решил, что ему обязательно надо выспаться для дела, тоже никак не мог совладать с собой.
Он еще ни разу не был в бою и много об этом думал. Рассказам своих товарищей, принимавших участие в военных действиях, он не очень-то доверял. Не потому, что они казались ему неправдоподобными, хвастливыми. Ему просто было трудно представить себя на их месте. Но какое-то внутреннее чувство подсказывало ему, что он сумеет себя держать под неприятельским огнем достойно и мужественно.
Несколько раз Максутов выходил из землянки и подолгу глядел то на порт, то в ту сторону, где была стоянка вражеской эскадры. Хотя в ночном мраке ничего не было видно, воображение рисовало ему силуэты кораблей.
“Пушек у них много, — размышлял Максутов. — Фрегаты сильные…”
Он подошел к пушкарям, проверил, уложены ли ядра на свои места, приготовлены ли запалы, порох.
— Все в аккурате, ваше благородие, — ответил Аксенов. — Есть чем врага угостить!
— Вот и хорошо! Спозаранку, верно, и начнется.
— Должно быть, так.
Не спал и Сергей Оболенский. Он лежал возле солдат, прислушиваясь к их разговорам о хозяйстве, о солдатской службе, об оставленной дома и уже забытой родне.
Вдруг крик птицы прорезал ночную тишину. Вероятно, в другое время никто бы не обратил на это внимания, но сейчас крик птицы почему-то показался значительным, предостерегающим. Какой-то солдат тихо проговорил: