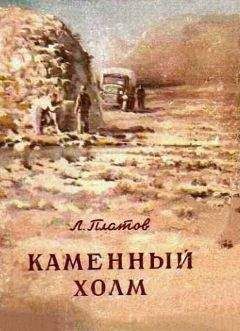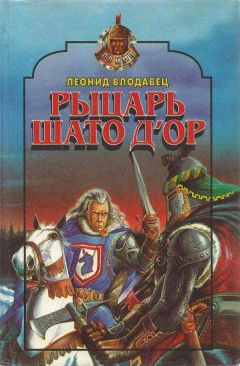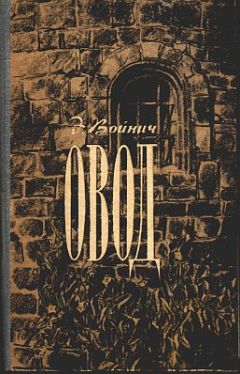– Как хотите, – сказал он наконец. – Обещаю не звать его, если только… – он не докончил.
– Если только…
– Вы должны предоставить мне некоторую свободу действий. Если мне покажется…
– Что я умираю? Этого не бойтесь! Так вы обещаете?
– Да.
– Раз так – вашу руку, Не беспокойтесь. Меня нелегко убить.
После долгого молчания он вдруг опять заговорил новым, хриплым голосом:
– Неужели вы не знаете, что убить меня нельзя? Ни переломав мне кости – это уже пробовали. Ни разбив сердце. О нет, убить меня невозможно – я всегда оживаю!
Немного погодя он начал бредить; быстро говорил то по-испански, то по-итальянски, но больше всего по-английски, причём, к удивлению Рене, очень чисто, без малейшего акцента. Один раз он попросил воды, но когда Рене подал ему стакан, он с неистовым криком: «Не подходите ко мне! Вы мне лгали!» – оттолкнул его от себя.
Снова и снова в разных вариантах повторял он эту фразу:
– Вы довели меня до этого, вы! Я верил вам, а вы мне лгали!
«Вероятно, какая-нибудь женщина», – подумал Рене. Вскоре Риварес, повторяя эту фразу, вскрикнул: «Падре! Падре! Падре!» И эти слова он повторял всю ночь, среди бессвязных обрывков поразительно разнообразных воспоминаний. Часто слова были еле слышны и мешались друг с другом, иногда голос совсем ослабевал, но порой из невнятного бормотания резко, как вспышки молний, вырывались отдельные фразы.
– Я знаю, что все разбилось. Я поскользнулся, – мешок был такой тяжёлый. Но ведь это всё, что я заработал за неделю, я же умру с голоду!
А немного погодя:
– Экс-ле-Бен? Но ведь это очень утомительное путешествие. А мама не любит останавливаться в незнакомых отелях. Но если вы считаете, что это нужно, я полагаю, мы могли бы снять виллу и взять с собой наших слуг?
Вскоре он заговорил совсем обыденным тоном:
– Мне очень жаль, падре, но у меня плохо идёт святой Ириней. Нет, дело не в греческом, но он невыносимо скучен, в нём нет ничего человечного… Не кажется ли вам…
Последние слова прервал крик беспомощного существа, охваченного животным страхом:
– Не надо, не надо! Не спускайте на меня собак! Вы же видите – я хромой. Можете обыскать меня, если хотите, – я ничего не крал! Эта куртка? Говорю вам, она сама мне её дала!..
Один раз он принялся считать по пальцам:
– Штегер за меня, Лортиг… тоже… помогли сороконожки… значит двое. И Гийоме за меня – трое. Только надо смеяться, не забывать смеяться его шуткам. Маршан… Но Мартель, Мартель! Что же мне делать с Мартелем?
После этого пошли обрывки шуточных туземных песенок:
Больше глазок мне не строй!
Думала, что я осел?
До свиданья, ангел мой —
Мне давно известно все.
И, подражая молодой мулатке, которая жеманится и хихикает:
Ах, отойди же и больше не лги!
Или ты думаешь, я забыла?
Далее шли глупые непристойности, которые он бормотал скороговоркой то мужским, то женским голосом. Это несомненно были отрывки цирковой программы. К цирку он возвращался снова и снова. Цирк, боль и человек, который ему лгал, – вплетались во все, о чём бы он ни говорил.
– Почему Хайме так взбесился? Потому, что я потерял сознание? Но ведь я же не нарочно! А через минуту он уже кричал:
– Падре, почему же вы не сказали мне правду? Неужели вы думали, я не пойму? Как могли вы мне лгать, как вы могли?
Риварес долго что-то неразборчиво, бессвязно бормотал и вдруг перешёл на испуганный шёпот:
– Погодите! Погодите немного… опять начинается. Да, скажу, скажу потом… а сейчас не могу… Как раскалённый нож…
Иногда раздавался взрыв жуткого хохота:
– Ваша репутация не пострадает. Я никому не расскажу, а они тоже попридержат языки, раз уж из-за этого произошло самоубийство. Разве можно – такой скандал в почтенном английском семействе! И не бойтесь, со мной уже покончено – я мёртв, и на мне лежит проклятье, а вы станете святым в раю. Ведь богу всё равно. Он привык спасать мир ценой чужих страданий.
Потом снова возвращался к цирку.
– Видишь вон там в углу толстого негра? С ним опять та женщина. Это он в прошлый раз затеял свалку, когда Хайме погасил свет. Ладно, если надо, значит надо, дайте мне только минуту… Если бы вы знали, какая боль… Да, да, иду…
И опять песенки. А один раз сальный куплет прервал душераздирающий вопль:
– О, убейте меня, падре! Поскорей убейте! Я больше не могу!.. Иисус, тебе не пришлось терпеть так долго. Риварес с размаху ударил себя по губам.
– Глупец! Что толку хныкать? Ему ведь так же безразлично, как и Христу. Молиться некому, ты знаешь! Хочешь умереть – убей себя сам. Никто не сделает этого за тебя…
К утру бред сменился невнятным бормотанием, потом больной умолк. На рассвете пришёл Маршан. Найдя своего пациента в тяжелейшем состоянии, он набросился на Рене:
– Так-то вы исполняете свои обязанности? Почему вы не позвали меня?
Рене, отвернувшись, молчал.
– Вы заснули! – прошипел Маршан вне себя от гнева. – А это продолжалось всю ночь…
Рене по-прежнему смотрел в сторону. Внезапно наступившее молчание заставило его поднять глаза: Маршан в упор смотрел на него, и лицо его покрывалось смертельной бледностью. Оно было пепельно-серым. Когда доктор наконец склонился над находившимся в полуобморочном состоянии больным, Рене, не сказав ни слова, вышел из палатки.
– Бедняга! – бормотал он про себя. – Бедняга! Он всё понял.
Днём воспаление пошло на убыль, и так как бред уже не мог повториться, на ночь остался дежурить Маршан, а Рене ушёл спать.
Как ни устал Рене, он долго не мог уснуть. Он узнал разгадку тех тайн и противоречий, которые полгода мучили его. А теперь он терзался, стыдясь невольного вторжения в чужую душу, содрогаясь при воспоминании о беспочвенных, безжалостных подозрениях, которые мешали ему разгадать правду раньше.
Всё было так просто и страшно. Единственный сын, нежно любимый матерью, поглощённый книгами, чувствительный, не знающий жизни, неприспособленный к ней. Трагедия обманутого доверия, безрассудный прыжок в неизвестность, неизбежная лавина страданий и отчаяния. Всё было так просто, что он не понял. Он предполагал убийство, подлог, чуть ли не все преступления, перечисленные в уголовном кодексе, и забыл только о возможности неравной борьбы человека с обрушившимся на него несчастьем. Его подозрения были так же нелепы, как если бы дело шло о Маргарите.
Маршан никогда бы не оттолкнул этого одинокого, отчаявшегося скитальца, как сделал он, Рене.