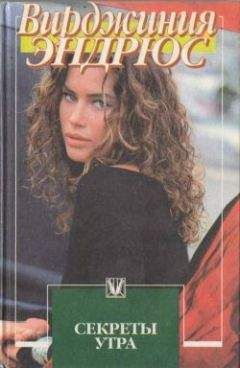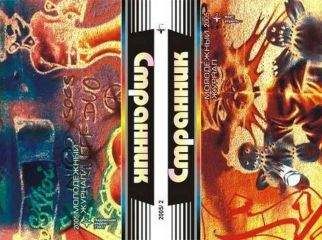Выржиковский смотрел, как все более растягивалась колонна и как скользили по обледенелому шоссе, там, где снег снесло ветром, в рваных сапогах и в башмаках с обмотками люди. Они шли, неся ружья «на ремень», держа руки в карманах. Они часто вынимали руки, терли ими уши под суконными безобразными касками, похожими на спринцовки, дули в кулаки, а на привалах танцевали на месте, стараясь согреться. Ни полушубков, ни перчаток, ни валенок… Бедна была рабоче-крестьянская армия, как были бедны и сами рабочие и крестьяне.
«Будут ознобленные, — думал Выржиковский, — будут отмороженные руки и ноги. Для чего?»
Он смотрел на выплывающее над лесом желтое, зимнее, неяркое солнце, от которого веяло холодом, и странным образом уму вспоминался его ночной рассказ. «Долг и честь… Когда-то было и то и другое… А теперь?.. Долг наш обморозить людей для охраны какого-то аптекарского ученика и дезертира Паца… Когда была монархия, мы знали одного Государя. Величественного, благостного, ясного, как это зимнее солнце, одно приближение которого сладко волновало сердца всех солдат. Теперь в нашем республиканском союзе явилось, как невешанных собак, самозванных вельмож, которых надо охранять ценою жизни красноармейцев. Может быть, в этом и смысл демократии: заменить Государя, который родился, чтобы управлять, учился, чтобы управлять, и который знал, что значит царствовать толпою диких, малограмотных неучей и жидов, которые не знают, не умеют и не могут знать и уметь. Вот что нам дал социализм».
На привале он догнал Выжву.
— Так ты уж распорядись всем, Иван Дмитрич, — ласково говорил Выжва. — Чтобы как при царе было. Сам знаешь: головами рискуем… Головами.
Ярко блестел впереди на шоссе чистый белый снег. Темный глухой бор смыкался над ним и задумчиво шумел зелеными вершинами розовых сосен в голубом, точно замороженном небе.
В этом лесу, в несказанном очаровании зимней природы, в прозрачной нежности ее красок, в тихой песне хвои, колеблемой по вершинам ветром, все, что делалось сейчас людьми, казалось Выржиковскому ненужным, скучным, пошлым и противным до одури.
9
Старый Ядринцев внимательно обошел лесопильный завод на фольварке Александрия.
— Ну и ну, — промычал он про себя и покрутил головою.
Сопровождавший его старший дровосек, Феопен Иванович, услышав, встрепенулся, как птица ночью, и спросил:
— Чего изволите?
Ядринцев смотрел Феопену прямо в глаза, по-солдатски, честно, прямо и открыто. Феопен потупил глаза.
— Это завод русско-польской компании?
— Так точно.
Высокий, широкоплечий, сильный мужик, в русой бороде, с серыми маленькими глазами, стоял против Ядринцева. Тип старого лесника-объездчика… В старину в барских охотах бывали такие доезжачие. Век в лесу или в степи с природой. От природы ли или от общения с барами бывала в них всегда какая-то мягкая, внутренняя деликатность, прикрытая хмурой сдержанностью и соединенная как будто с чувством своего превосходства над другими. Превосходства в умении слышать голоса и понимать язык природы.
— Сам откуда?
— Села Борового.
— Что там мужики говорят про Советы?
— Что говорят? Вам, чай, известно, как верить мужику… У него что зарубил, по тому и тешет… А там, поди, снуй основу… Говорят хорошо… Да проверять надоть.
Ядринцев стоял против сараев с прочными дверями. Сараи были замкнуты на замок и опечатаны польскою казенною сургучной печатью.
— Здесь что?
— Не могу знать… Опечатано без нас.
— Не ври… В армии служил?
— Кто теперь не служил… Все служили, — вздохнул Феопен.
— Так не знаешь, что в сараях?
Феопен опустил глаза.
— Кто ж их знает…
Ядринцев прошел к конюшням. Двадцать лошадей, не крупных, легких, не крестьянских, не рабочих, скорее верховых, стояло в военном порядке на конюшне.
— Лес куда теперь возите?
— На узкоколейку, на Копыли.
— А оттуда?
— На Стобыхву.
— Это почти сто верст?
— Сто верст и будет, — как бы удивился знанию Ядринцева Феопен.
— Какой же расчет?
— Дело хозяйское.
— Почему не в Гилевичи через Боровое?
— Там теперь совецкая земля…
— Ну и ну… Обкарнали матушку Россию, — пробормотал Ядринцев. — А что в урочище Красный Бор глухари теперь есть?
— Кто ж их знает… Как сказать… Об весну токовали, однако.
— Так вот, Феопен. Значит, весь внутренний распорядок, наряд лошадей, харчи — все от меня… Понял?
— Точно так… То есть… по заводу?
— Что значит «по заводу»?
— Да уж так… Если что прикажут со вне, то уж… как прикажут.
— Я не понимаю, Феопен.
Но Феопен хмуро молчал и ничего от него больше нельзя было добиться.
В большом досчатом сарае пыхтел локомобиль. С дребезжащим свистом ходила широкая продольная пила, ей дробно вторила круглая поперечная. Каждые полминуты раздавался плоский, шлепающий, звонкий звук падающей доски, и почти непрерывно стучали летящие из-под круглой пилы обрубки тонких стволов.
Ядринцев прошел в калитку, прорезанную в широких воротах. В тусклом свете осеннего дня, проходившем через многостекольные широкие окна, все было в розовом отблеске летящих опилок. Едко пахло спиртным запахом свежераспиленного дерева. Визжала, вертясь, широкая звонкая пила и точно стонала под нею красная сосна.
Глеб и Владимир с двумя рабочими направляли работу.
Тут ничто не казалось подозрительным Ядринцеву. Глеб в кожаном фартуке стоял у машины. Над его головой, шелестя, порхал широкий ремень, мягко скользя с блестевшего смазанной сталью маховика. Владимир склонился, стоя у высокой конторки, отмечая по большой книге работу. Рабочие, крестьяне, больше люди лет под сорок, направляли под пилы бревна и тонкие стволы.
«Да, конечно, лесопильный завод на полном ходу. Эксплуатация лесной дачи господина Заркевича. А все-таки… — подумал Ядринцев. — Девять человек ушли на работу по рубке леса за пять верст отсюда. Завтра поедут возить. Но что опечатано в сараях?.. Почему такие хорошие лошади? И люди под одно лицо. Точно переодетые в крестьянские свитки гвардейцы… Впрочем… Верно сказал Феопен: кто теперь не служил».
По деревянной, со свежими, еще не зачерневшими ступенями лестнице Ядринцев поднялся наверх, в жилое помещение. В небольшой кухоньке пахло супом. Кипела в кастрюлях вода. За дверью Ольга что-то приколачивала, напевая по-польски.
— Ольга Николаевна, можно?
— Пожалуйте, Всеволод Матвеевич.
Ольга на стуле, с молотком, сухими дубовыми ветвями окружала портрет маршала Пилсудского в черной раме. В зубах у нее были гвозди. В глазах горел смех. Сквозь зубы напевала: