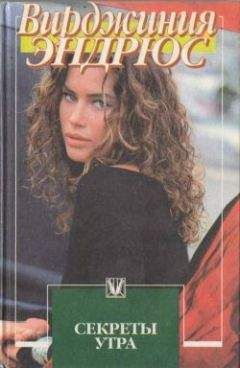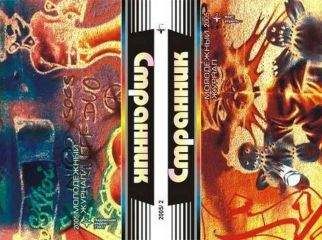— А что? — спросил Выжва.
— Как будто филин кричал.
— Полноте, Иван Дмитриевич. Какого черта филин будет кричать в такую-то бурю, — сказал Корыто. — Да еще зимой. Филины кричат в хорошую, теплую, летнюю ночь… Я сколько лет живу в здешних казармах, а никогда никаких филинов тут и в помине не было.
— Но я слыхал, — уже нерешительно сказал Выржиковский.
— Это вам показалось, товарищ, — сказал Медяник.
Он уютно уселся с ногами на тахту рядом с Выжвой и чувствовал себя прекрасно. Ему казалось, что он и сам «настоящий офицер», какие были в царское время, и находится среди «настоящих офицеров». «Вот жаль только, что погон нет. А то еще лучше бы эполеты, густые, с бахромой из золотой канители». Он самодовольно покосился на золотые звезды на рукаве, улыбнулся, поежился и сказал сытым изнеженным голосом:
— Закройте-ка форточку, товарищ начштаба. А то опять товарищу Выржиковскому что-нибудь начнет мерещиться.
Выржиковский отошел от окна, сел за стол и налил себе большую рюмку водки.
— Вот, — сказал он, — Сруль Соломонович, да и вы, товарищ комполка, вы ни во что не верите в сверхъестественное. А между тем все-таки что-то есть. А если есть что-то, хотя бесконечно малая величина какого-то неизвестного икса, то уже можно найти, отыскать, исследовать уже и более крупные величины. Да вот хотя бы такой случай…
— Ну, расскажите, расскажите, — снисходительно сказал, щурясь, как жирный кот, Медяник.
— Это было, когда я служил в Муринском полку. Был у нас врач. Очень хороший врач, материалист, в Бога, понятно, не верил. Он и по нынешним временам годился бы. Попал этот врач к нам из Петербурга, где он много лечил в богатых, хороших домах. Вот что он мне рассказывал. У одного уже пожилого полковника, однако еще красивого, молодцеватого и бодрого, была старая связь с женою его товарища. Связь длилась годы, но только так ловко они ее скрывали, что не только муж, но и вообще никто никогда не догадывался об этом. Считалась эта дама примернейшей супругой, самой добродетельной полковою дамой, образцом и примером буржуазной семьи.
— Вот сволочь, — сказал Выжва.
— Муж ее поигрывал в карты. Каждый день он пропадал часов до двух ночи в клубе, а в его отсутствие, когда прислуга уходила в свою комнату, являлся любовник, отворял своим ключом двери, прокрадывался в спальню, раздевался и забирался в супружескую постель. Там они приятно проводили время, а в час ночи любовник тихонько одевался и тем же способом исчезал. Вот раз, — рассказывал мне доктор со слов этой самой дамы, — перетянул ли полковник струну наслаждений или просто пришла ему пора умирать, только вдруг он тяжело упал на грудь своей любовницы и стал холодеть. Она вырвалась из-под него, стала его тормошить. Он был мертв. Дело обыкновенное: разрыв сердца. Был первый час ночи. Вы понимаете, каково положение? Примернейшая супруга, матрона, образец добродетели, известная всем высокою нравственностью, и вдруг у нее в постели труп чужого мужчины…
— Да, — вздохнул Корыто, — тут в ЗАГС не пойдешь алименты взыскивать.
— Она металась по комнате. Она кинулась на колени перед иконой, молилась…
— Вот они, буржуазные предрассудки, — вставил Выжва.
— Она стала перед трупом, взывала к его чести, умоляла, проклинала его… Наконец, готовая на все, бросилась в угол в кресло и застыла, глядя на труп, лежащий на ее взбудораженной постели. Вдруг, что же она видит? Медленно и угловато, тяжело и неестественно согнулось тело, неловкими движениями отыскало белье, платье, оделось, обулось и, мерно шагая, как манекен, вышло из комнаты. Вся оцепенев от ужаса, она глядела ему вслед. Неровные, будто чужие шаги раздались по будуару, по гостиной, потом хлопнула дверь и все стихло. Тогда она стала приводить спальню в порядок. Через пять минут пришел муж.
— Ну а дальше что? — спросил Медяник.
— Дальше идут показания извозчика. Извозчик показал в полиции, что около часа ночи он проезжал по Николаевской улице, — это, что теперь улица Марата, — в поисках седока и увидел человека в военной шинели, показавшегося ему словно пьяным. Этот человек сделал рукою знак остановиться, сел в пролетку и приказал странным, деревянным, точно лающим голосом ехать на Знаменскую улицу, что теперь улица Восстания, и, вопреки обычаю, указал номер дома. Тогда ведь в Петербурге говорили только, на какую улицу везти, а потом уже показывали рукой: «сюда, мол, вон к этому розовому дому, или говорили: налево-де, третий дом от угла. А этот седок указал точно: к такому-то номеру. Извозчик привез, остановился. Седок не слезает. Он оглянулся, седок сполз вниз и сидит кулем на дне пролетки. Видимо дело, пьян и заснул. Извозчик слез, стал расталкивать и с ужасом увидел, что в пролетке закоченелый труп. Вызвали полицию, позвали того доктора и доктор определил, что этот военный умер часа два тому назад, т. е. примерно за час до того времени, как он нанимал извозчика. После, когда он был у своей пациентки, сильно потрясенной, она поверила ему, как доктору и старому другу, свою историю. Вот я и спрашиваю вас: что это такое?
— Это, наверное, рефлекс головного мозга, — сказал с важным видом Медяник.
— Да, может быть, он тогда и не умер, а был в обмороке, — сказал Смидин.
— Нет, товарищ. Это было исполнение долга чести. Душа, покинувшая тело, поняла, что она не может оставить тело в постели своей возлюбленной, и снова вернулась в тело, оживила его и заставила одеться и уйти. Тайна осталась тайной.
— Да, — вздохнул Корыто и сказал, ни к кому не обращаясь, но глядя на Смидина: — Тогда действительно понимали, что такое долг чести… Тогда… Честь… Это знаете… Было… Теперь что же — алименты, мещанство, предрассудки?..
Смидин отвернулся, встал, отошел в угол и порывисто сказал, обращаясь к Медянику:
— Товарищ комиссар, вы, кажется, хотели послушать новые стихи?
— Пожалуйста… Отчего же нет, — снисходительно сказал Медяник.
— Просим, просим, — поддержали Выжва и Выржиковский.
Смидин откинул со лба седеющую прядь русых волос, поднял бледное, накрашенное лицо, устремил вверх из-под голубых век серые глаза и начал, скандируя чуть в нос слова, подражая поэтам Лефа [22], свои стихи:
Ллойд-джорджу лорду
Набьем мы морду
Враз.
А Чемберлену
Все рыло в пену
Вдрызг.
Осточертели
Нам все Черчили
До дна!
В плохой игре
Пуанкарэ.
Вон!..
Он замолчал, прислушиваясь. За окном с поднятою шторою выла вьюга. За дверью, где помещался вестовой, как будто кто-то негромко, но быстро и взволнованно говорил.