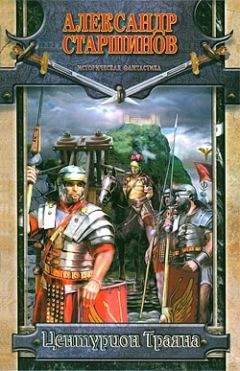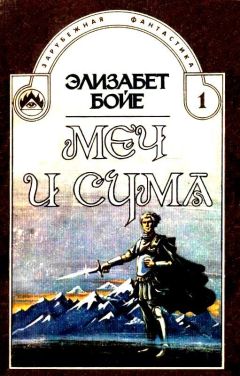— Подарить мне четыреста тысяч сестерциев?
— Почему нет? Всем известна твоя честность, Осторий. Хорошему человеку и доброму римлянину я обязан помогать. Состояние мое среднее по нынешним меркам — двенадцать миллионов сестерциев, но мне вполне достаточно.
Плиний — такой странный человек, вечный ученик, исполняющий урок — урок добра и доброжелательности. Он постоянно взвешивает на весах — хорошо или плохо он поступает, стремится к добродетели скорее разумом, нежели сердцем, но стремится изо всех сил. О своих добрых делах Плиний торопится сообщить, но при этом почти кокетливо преуменьшая сделанное, скромничая и немного жеманясь. Но было нелепо его упрекать за это — ему нравилось слыть добродетельным.
— Нет. Не нужно. — Осторий Старший демонстративно расправил плечи.
— Тогда что ты скажешь о сорока тысячах для твоего сына? Он бы мог после нескольких лет службы у Траяна стать центурионом в легионе.
— Я подумаю, — наклонил голову Осторий.
— Не думай слишком долго. Я столько друзей потерял, стольких, мой друг, — признался Плиний. — Уже кажется, и нет рядом со мной никого.
— Ты боишься? — спросил Осторий.
— Верные люди мне сообщили, что у императора лежит на меня донос, но почему-то Домициан не дает ему хода.
— Быть может, у императора на каждого из нас есть донос? — предположил Осторий. — И в нужный момент принцепс даст кляузе ход?
— Ты слышал о последнем спектакле Домициана? — Плиний, кажется, был счастлив, что нашел собеседника, с которым можно поговорить откровенно. Нет ничего приятнее такой беседы. — Император созвал к себе самых уважаемых, самых достойных людей в Риме.
При слове «достойный» Осторий слегка скривился, но ничего не сказал.
— Они пришли и что же видят? — продолжал Плиний. — Столовая вся убрана черными тканями, а перед каждым местом обеденного ложа[83] установлено мраморное надгробие, и на мраморе выбито имя гостя.
Все молча заняли свои места — каждый напротив своего камня. Уверенные, что это их последняя трапеза, гости с трудом сохраняли остатки мужества. Когда распахнулась дверь, все вздрогнули: ждали палача. Но в столовую неожиданно вошли обнаженные мальчики-рабы. То ли нубийцы, то ли выкрашенные в черный цвет. Они исполнили танец и удалились. После этого стали подавать поминальные блюда из тех, что обычно готовят для Манов.[84] Гостям кусок не шел в горло, а тем временем Домициан, укрывшись где-то за занавеской, монотонным заунывным голосом читал истории про убийства и кровавые пытки. Когда, наконец, черная пирушка закончилась, гости, не веря, что им позволяют уйти, отправились домой. А вслед им из Палатина уже мчались рабы с подарками от императора.
— Надеюсь, мой добрый Плиний, тебе не довелось присутствовать на этом обеде, — заметил Осторий.
Хозяин кисло улыбнулся, и его улыбку можно было трактовать двояко. Осторий Старший подумал, что Плиний на этом обеде побывал, его сын — что всего лишь слышал об этой «шутке» императора.
Они перешли из таблиния в малую столовую, где, по заверениям хозяина, для них приготовили небольшую закуску. Но стол был пуст, более того, не убран с завтрака.
— Да что ж такое! — нахмурился Плиний и хлопнул в ладоши. — Где ж эти бездельники. Эй!
В столовую заглянул кто-то из рабов и тут же исчез, наконец, появились двое, один с кувшином вина и бокалами, второй с закусками.
— Они у тебя разбаловались, мой добрый Секунд, — улыбнулся Осторий, разглядывая круглые физиономии слуг.
Плиний вздохнул:
— Да уж… не знаю, что и делать. Не жечь же их каленым железом, как это делает Афраний Декстр.
— Ты не сможешь! — засмеялся Осторий.
— Не смогу. Жизнь человеческая и так коротка и урезана, к чему пятнать ее зверствами? Давно ли я видел прекрасный город, цветущий у подножия Везувия? Нет уже этого города. Я сам с матушкой чудом спасся. Мой дядя погиб на берегу, пытаясь спасти его жителей и подвести поближе корабли Мизенского флота. А Стабии? Эти чудные виллы, непременно выходящие к морю, с прелестными банями, перистилями и садами, совершенными фресками и скульптурами? Все осталось под пеплом, вместе с несчастными жителями. Разве мало изначально жестокости в мире, чтобы нам ее вновь и вновь умножать?
Плиний что-то еще говорил о росписях и виллах, Гай не слушал. Внезапно он ощутил себя живущим на берегу моря, в уютной и просторной вилле. Он стоит в гостиной, но не развлекается или читает, а расписывает стену. На незаконченной фреске — цветущий луг, и по этому лугу шествует Весна в облике юной девушки. Примавера-Весна рассыпает из бронзового рога лиловые и белые цветы, кисть скользит по влажной штукатурке, намечая легкий шарф на плечах девушки. Внезапно темнеет. Гай выходит в перистиль и видит, как падает с неба черный пепел. Сквозь страшный этот дождь мерещится в сером небе огромное облако над Везувием.
Слуги, увидевшие этот ужас, с криком кидаются к хозяину. «Бежать!» — кричат наперебой. Они успеют, на берегу их ждет лодка для катаний, каждовечерне она принимала хозяина и его гостей на борт ради сладостных увеселений, теперь спасет всем жизнь. Скорее!
Но Гай возвращается в комнату и смотрит на стену.
У девушки на фреске недорисована рука, кисть ее лишь намечена блеклой розовой краской. Рука, протянутая к цветку. Гай не может бежать. Он должен закончить фреску. Дорисовать руку и цветок. Пусть другие бегут. Он останется. Пока страшное облако докатится до Стабий, он все закончит…
— Что с тобой! Гай! Гай! — Отец несколько раз тряхнул его за плечо.
Гай очнулся. Провел ладонью по лицу — обильная испарина выступила на лбу. Капли пота стекали по спине под новенькой туникой, и руки дрожали.
— Я был там только что… — сказал он.
— Где?
— В Стабиях. Я видел фреску. Девушка-Весна.
— Девушка в оранжевой столе[85] на зеленом лугу? — живо переспросил Плиний.
Поначалу Гай не мог вымолвить ни слова, лишь молча кивнул.
— Он хорошо рисует, — как будто извиняясь за сына, сказал Осторий.
— Для римлянина это не имеет значения, — мягко улыбнулся Плиний.
— Откуда… Как ты догадался, что девушка на фреске была в оранжевой столе? — спросил Гай.
— Я ее видел, — ответил Плиний. — Видел фреску.
* * *
— Что скажешь о предложении Плиния? — спросил отец, когда они покинули дом претора.
— Я не хочу в легион. Я хочу… — Гай на миг задохнулся. — Хочу быть художником.
— Римляне этим не занимаются.
— Но я хочу рисовать!