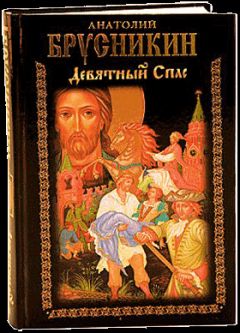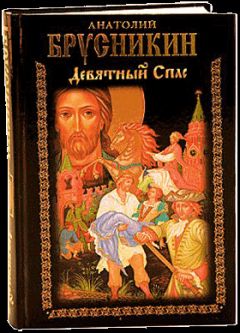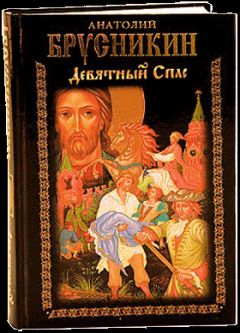Митьша был окрылён тем, что нынче утром сумел отрезать ножом ломоть хлеба. Оттого и про руку с мечом заговорил
– Тихо! – оборвал его Илья, прислушавшись к раздавшемуся из леса птичьему крику. – На дороге пищалка шумнула. Едет кто-то.
У него на всех подходах к мельне под землей были расставлены кряквы, пищалки, кукуньки. По звуку слыхать, с какой стороны чужой приближается. Никитин переменился в лице. Преображенцы?! Но Ильша был спокоен.
По дороге – это со стороны Сагдеева. Известно кто. Давненько что-то не наведывалась, подумал он. Не хворала ли?
Лицо лесного жителя странно помягчело. Митя смотрел на товарища с удивлением – никогда его таким не видел. Уже катясь встречать гостью, Илейка сказал:
– Ты, Митьша, в сарайчик поди. Спрячься от греха.
Не одна ведь она, а с возницей, да со Стешкой своей. Возница болтать не станет, но от Стешки лучше поберечься, дура девка.
Из-за деревьев выехала нарядная повозка, которую тащила весёлая лошадка с разноцветными лентами в гриве. Василиска соскочила, побежала навстречу. Возница остался на облучке, помахал Илье рукой. А Стешки нынче не было. На её месте сидел какой-то парнишка, Илье незнакомый.
Робко дева говорит:
«Что ты смолкнул, милый?»
Ни полслова ей в ответ:
Он глядит на лунный свет,
Бледен и унылый.
В. Жуковский
Девочку, лишившуюся матери в самый день своего рождения, очень долго не крестили. Её отец, князь Матвей Минович Милославский, всё будто ждал чего-то. Не то наущения Божьего, не то явления покойницы супруги, утопшей княгини Авдотьи Львовны. Наконец, когда дольше тянуть уже стало невмочно, родитель велел крестить младенца по святцам, на какой день выпадет. Выпало на Василису Египетскую.
Когда ребёнок, наконец, обрёл имя, уже стояла зима. Внутридинастийная смута утихла, в царстве-государстве восстановился порядок. Власть теперь крепко держали Нарышкины, благоверная правительница Софья осталась без правительности, при одном лишь благоверии: уселась в монастыре, как девке-царевне и надлежало бы с самого начала. Её родичи Милославские позабились в щели, тише воды, ниже травы.
Матвею Миновичу к тишине да нижние было не привыкать. Он с рождения был человек робкий, смирный. Сидел часами у птичьих клеток, слушая, как высвистывают соловьи, дрозды и канарские воробьи, а превыше всего на свете обожал подпевать на клиросе в сельской церкви высочайшим голоском – иной раз неверно, но кто ж его княжеской милости на такое указал бы?
А более всего не любил князюшка споры, раздоры, всякие свары. Чрезвычайно расстраивался от них душой и даже желудком. Все дворовые знали, что перечить и упрямствовать не надо. Господин со всем согласится, а после потихоньку шепнёт прикащику, и строптивца-упрямца в сей же день продадут куда-нибудь за тридевять земель, так что никто его больше не свидит. Знал Матвей Минович, что бессемейная продажа – грех и на Руси не в обычае, но очень уж неприятно становилось видеть невежу, что посмел его расстроить.
После падения рода Милославских и тёмной гибели жены к природной тихости князя прибавилось еще одно качество: крайняя боязливость.
Под горячую руку его, вслед за более заметными родственниками, вызвали в Тайный приказ и расспросили по делу Софьи. Пытать не пытали, только прикрикнули. Однако Матвею Миновичу этой острастки на всю жизнь хватило.
В столице с тех пор он ни разу не был. С прочими Милославскими старался не знаться, а когда те наезжали в Сагдеево по-семейному, уклонялся поддерживать какие-либо разговоры про московские дела.
По жене князь сильно не убивался, дочь мало сказать что не любил (любить-то он, наверное, и вовсе никого не умел, не было в нем для этого достаточно душевной силы), а как-то чуть ли не опасался, с самого ее младенчества.
Василиса ещё совсем кроха была, а уже примечала в тятиных глазах то ли робость, то ли брезгливость. Целовал он её только на Пасху, губами не касаясь. По голове или по плечу не гладил никогда.
Ну да девочка об том нисколько не печалилась. Было кому её и поцеловать, и приласкать.
Кроме родителя, все обитатели княжьего двора (а было их не один и не два десятка) в маленькой Василисе Матвеевне души не чаяли.
Девчоночка росла ясная, звонкая. Без неё просторные деревянные хоромы закисли бы, а тут с утра до вечера и в одном конце, и в другом цокот подкованных серебром сапожек, заливистый смех, песни, игрища.
На Москве в боярских и княжеских домах быт в последние годы стал меняться. Желая угодить его царскому величеству, многие из знати начали тянуться к европейскому обычаю. Скинули длинные старинные одежды, обзавелись немецкими каретами, самые дальновидные, радея за дочерей, наняли им танцевальных да политесных учителей-иноземцев, ибо сообразили, что обученные по-европейски невесты скоро будут в цене.
В Сагдееве, однако, всё оставалось по-старинному. Княжну окружали мамки и няньки. Когда была мала, с утра до вечера расчесывали ей длинные пушистые власы, сказывали сказки. Зимой катали на санках, летом на качелях. Читать Василиска выучилась по собственному хотению – очень уж любила рассматривать книги с картинками, любопытно было, что там вокруг буквицами приписано.
Спать девочку укладывали, когда стемнеет. Поднимали с петухами. Из полезного, что после в замужестве пригодится, учили вышивать по шёлку и гадать по сарацинскому пшену.
Подруг того же возраста у Василиски не было. Князь-батюшка детского шума не любил, да и вообще, как уже было сказано, гостей не приваживал. Дочку, правда, когда немножко подросла, из дому отпускал охотно. Только ездить особенно было некуда. Соседи у Матвея Миновича были худородные, землёй скудные, принимать у себя княжескую дочь робели. Единственно в монастырь можно было наведаться, туда и других детей честного звания привозили. Но божья обитель – место чинное, скучное, игры играть не станешь.
Поэтому Василиска привыкла играть одна, сама с собой. В девять лет владела она тремя куклами, они и были её товарищи. Две куклы искусной работы: королевич Бова, преотважно махавший сабелькой, и Несмеяна-царевна, умевшая лить слёзы. И ещё мальчик-Златовлас, которого княжна сама придумала, сама из соломы и тряпок сделала, а волосья прицепила из парчовых ниток. Старый Олекса, что раньше служил сторожем, а ныне кормился при кухне, много раз рассказывал про мальчика, который новорожденную в усадьбу принёс и потом убежал. Василискин спаситель, по словам Олексы, был собой тоненький, с златоогненными волосами.