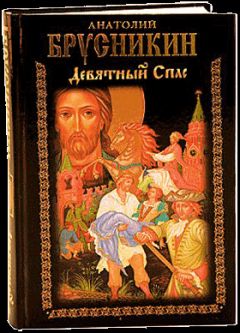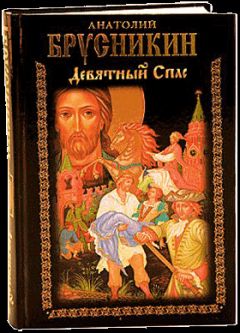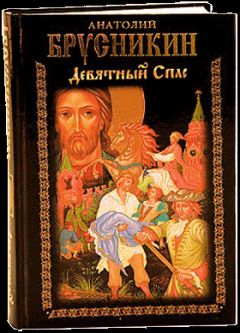Не счесть, сколько раз девочка воображала, как Златовлас однажды за ней снова явится. А не явится – она подрастёт и сама его разыщет.
Василиска много чего себе в мечтах придумывала. Неспроста ж её в святой церкви нарекли именем, будто взятым из сказки.
Иногда она решала, что будет Василисой Прекрасной. Иногда – Василисой Премудрой. Разница здесь в чём? Прекрасную Василису спасает Иван-царевич. Премудрая Василиса сама спасает суженого. Хотелось и быть спасённой, и спасать. То первое казалось слаще, то второе.
* * *
Детство у всех заканчивается в разные сроки. Есть люди, у которых – никогда, эти так и доживают до старости малыми ребятами. Но есть люди, кому судьбой написано взрослеть рано – по складу характера или по стечению обстоятельств.
И годы спустя Василиса с точностью, без малейших сомнений, могла сказать, в какой момент своей жизни она перестала быть ребёнком. Довольно было закрыть глаза, и тот октябрьский день сам выплывал из минувшего.
Она сидела наверху, у себя в светёлке, раскладывала на столе из осенних листьев – красных, желтых, бурых – чудесный узор. Играла в Василису Премудрую. Будто бы ей нужно поспеть к утру соткать волшебный ковёр, на котором вся держава отобразится, как живая. А не поспеет – срубит грозный владыка Иван-царевичу голову с плеч.
Вдруг внизу забегали, кинулись открывать ворота. Пожаловал кто-то. Никак гости? Любопытно! Влезла Василиска на подоконницу, стала смотреть.
На двор въезжала тележка, в ней двое. Мужчина в синем кафтане с серебряным шитьём правил; рядом, укутанный в шубейку, сидел мальчик.
Отец как раз спустился с крыльца, семенил навстречу. Удивился, завидев незнакомца, всплеснул руками. Знать, давно не видались.
У приезжего человека было приметное лицо: нос ястребиный, чёрные усы, по щекам две продольные складки, резкие. Ртом мужчина улыбался, глазами – нет. Это тоже было интересно, раньше Василиска такого не видывала. Она открыла окошко, чтоб подслушивать.
Тятя и Ястребиный Нос обнялись, облобызались. Отец сказал что-то срывающимся голосом. Донеслось лишь: «…Не вышло бы худа, Автоном». Зато у гостя голос был ясный, каждое слово слышно:
– Это мне бы, зятюшка, такого свойства опасаться надо. Тебе же от меня ничего, кроме пользы проистечь не может. Я нынче знаешь кто? Преображенского приказа поручик. То-то.
Здесь тятя закланялся, стал дорогих гостей в дом звать. Автоном, который поручик (что за слово такое?), взял под мышки мальчишку, сидевшего неподвижным кулём, поставил на землю.
– Вот мы и приехали, Петюша. Тут твой дяденька живет. Погостим у него.
Удивительно, что, говоря с пареньком, Автоном будто голос поменял. Мягко сказал, задушевно.
Спрыгнула Василиса на пол, стала звать горничную девушку Стешку, что состояла при княжне неотлучно чуть не с пелёнок.
– Подавай всё самое лучшее! Сарафан с кисейными рукавами! Душегрею с райскими птицами! Убор главной, с жемчугом!
Еле дотерпела, пока Стешка, бестолковая, управится.
В обычной семье, где живут по чину и обычаю, в страхе перед батюшкой-хозяином, девчонка нипочём бы не осмелилась, не будучи звана, к гостям выходить. Но Василиска привыкла своевольничать, как ей захочется. Сбежала вниз по лестнице резво, топотно, задрав подол до колен. Лишь перед входом в трапезную, откуда слышались голоса, встряхнулась, чинно выставила кверху подбородок, вплыла ладьёй-лебёдушкой: вот вам, любуйтесь.
Гость сидел на почетном месте, пил из кубка ренское вино (Василиска раз попробовала – гадость). Вблизи родственник оказался старше, а глаза – чудные, жёлтые – так в княжну и впились.
– Никак племянница моя?
Отец обернулся.
– Василиса, это Автоном Львович, брат матушкин.
Дядя подошёл, взял Василиску за плечи, присел на корточки. Пальцы у него были цепкие, губы красные, зубы белые.
– Милославская порода, не спутаешь, – протянул он, будто удивляясь. А чего удивляться-то? Василиса Милославская и есть.
– Погляди, Петя, это сестрица твоя двоюродная. А двоюродная значит – «вдвойне родная».
Мальчик, однако, на Василиску не поглядел. Он сидел на лавке прямой и негнущийся, как чурбанчик.
– Здравствуй, братец.
И глазом не повёл. Неживой какой-то, подумала княжна, но хозяйке полагается быть любезной. Приблизилась, поцеловала в щёку, по-родственному. Он, невежа, поморщился, вытерся рукавом.
Взрослые засмеялись, а противный Петя, наконец, осчастливил – повернулся.
Лицо у него было треугольное, бледное, а глаза, каких Василиска отродясь не видывала и даже не знала, что такие бывают. Сиреневые, немигающие, сонные. Как две ночки.
– Подите, поиграйте, – велел дядя Автоном, – а мы потолкуем.
Вздохнув, Василиска взяла увальня за руку, повела наверх. Слышно было, как гость сказал:
– Молодец ты, Матвей. Скромно живешь, пыль в глаза не пускаешь. При таких-то деньгах. Оно, конечно, правильно.
– Какие мои доходы, – скучным голосом возразил тятя и стал что-то рассказывать про плохие воски да худые хлеба, неинтересно.
Долг предписывает всякого гостя, даже самого никчёмного, привечать и тешить. О том и двоюродная сестрица княжна Таисья сказывала, а уж она-то знает, в Москве живет.
Посему попробовала Василиска с Петей приличную беседу завести: как-де доехали, да не было ль по дороге какой поломки либо иной напасти.
Но бирюк неотёсанный отмалчивался, в разговор не вступал.
Тут она заметила, что он разглядывает ковёр из листьев, так и недотканный.
– Что, красиво? Хочешь, вместе докончим?
Мальчик скривил тонкое личико, шагнул к столу и смахнул всю красоту на пол. Листья взвихрились, закружились, попадали.
Стало Василиске жалко и стараний, и погубленной красоты.
– Ты что, дурной?!
А он, провожая взглядом последний падающий листок:
– Глазам колко. Не люблю осень. Крику от нее много.
Это он в первый раз рот раскрыл, а то уж она думала, немой.
Голос у двоюродного тоже был необычный. Тихий, но глубокий, из самой груди. Василиске захотелось, чтоб Петя еще что-нибудь сказал. Но он смотрел своими странными глазами в окно и всё так же морщился. А на что там морщиться?
Осеннее поле, за ним осенний лес, весь багряный, медный, златокружевной; над лесом синее небо.
Но всё это Василиска вдруг увидела, будто впервые, чужими глазами. И поняла, про что новоявленный братец сказал. Очень уж пёстро от изобилия красок. Крикливо. И сразу же за осень обиделась.
– Бог каждый год об эту пору урожай даёт, празднично леса-поля разрисовывает. Чтоб люди радовались. Уж Богу ль не знать, много от осени крику или мало?