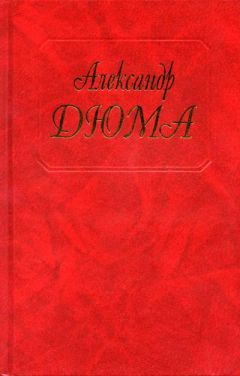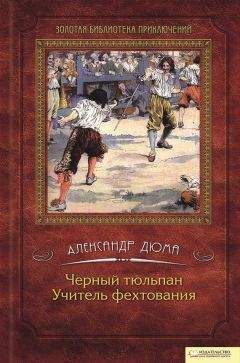— Да, ты! Я с удовольствием посмотрела бы, какова ревность у француженки.
— Но, ваше величество, — отвечала баронесса, — я могла бы ревновать только из самолюбия, — как же иначе? А я люблю короля Наваррского лишь потому, что это надо, чтобы услужить вашему величеству.
Несколько секунд глаза Екатерины смотрели испытующе.
— Все, что ты говоришь, в конце концов может быть и правдой, — сказала она тихо.
— Ваше величество, вы читаете в моей душе.
— А мне ли предана эта душа?
— Приказывайте, ваше величество, и вы убедитесь в этом.
— Хорошо, Карлотта! Но раз ты служишь мне, то эта служба требует, чтобы ты оставалась влюбленной в короля Наваррского; а главное — очень ревнивой, такой, как бывают ревнивы итальянки.
— А как ревнуют итальянки? — спросила Шарлотта.
— Это я расскажу тебе потом, — ответила Екатерина.
И, кивнув головой, она вышла так же медленно и молча, как вошла. Ее глаза с расширенными и светлыми зрачками, как у пантеры или кошки, привели Шарлотту в такое замешательство, что в момент ухода королевы-матери она была не в силах произнести ни слова, старалась даже не дышать и только тогда передохнула, когда услышала звук захлопнувшейся двери, и Дариола пришла сказать, что страшный признак наконец исчез.
— Дариола, придвинь кресло к моей постели и посиди со мной, пожалуйста, а то я боюсь оставаться ночью одна.
Дариола исполнила ее желание, но, несмотря на общество своей горничной, всю ночь сидевшей около нее, несмотря на свет лампы, которую для большего спокойствия оставили гореть, баронесса заснула лишь под утро — так долго еще гудел в ее ушах металлический голос Екатерины.
Маргарита хотя заснула на рассвете, но проснулась сразу же, как только раздались звуки труб и донесся лай собак. Она немедля поднялась с постели и стала одеваться, придав своему наряду намеренно домашний вид. Затем позвала своих придворных дам и распорядилась пригласить в переднюю дворян из свиты короля Наваррского; после этого, открыв дверь в кабинет, где находились под замком Генрих Наваррский и Ла Моль, она тепло приветствовала взглядом молодого человека и обратилась к мужу:
— Послушайте, сир, внушить моей матери то, чего нет, — это еще не все: вам надо убедить весь двор, что между нами существует полное согласие. Но успокойтесь, — смеясь, прибавила Маргарита, — и хорошенько запомните мои слова, почти торжественные в этой обстановке: сегодня я в первый и последний раз подвергаю ваше величество такому мучительному испытанию.
Король Наваррский улыбнулся и приказал впустить дворян. В то время как они его приветствовали, он сделал вид, будто лишь сейчас заметил, что его плащ остался на постели королевы, извинился перед ними за свой неоконченный туалет, взял из рук смущенной Маргариты плащ и, накинув на левое плечо, застегнул драгоценной пряжкой. Затем, обратясь к дворянам, спросил их о городских и дворцовых новостях.
Маргарита краем глаза наблюдала на лицах придворных едва заметное выражение удивления по поводу вдруг обнаружившейся близости между королевой и королем Наварры; в это время явился лакей и доложил о приходе герцога Алансонского.
Жийона заманила его очень просто: ей было достаточно сказать ему, что король Наваррский провел ночь у своей жены.
Франсуа вошел с такой стремительностью, что, расталкивая толпившихся придворных, чуть не сбил с ног нескольких из них. Прежде всего он оглядел Генриха и уже после — Маргариту. Генрих Наваррский любезно поклонился; Маргарита придала своему лицу выражение полного блаженства.
Затем герцог окинул комнату беглым, но пытливым взглядом: он заметил и раздвинутый полог кровати, и смятую двуспальную подушку в изголовье, и шляпу короля, лежавшую на стуле.
Герцог побледнел, но тотчас справился с собой.
— Брат Генрих, вы придете сегодня утром играть с королем в мяч? — спросил он.
— Разве король сделал мне честь и выбрал меня своим партнером? — спросил в свою очередь Генрих Наваррский. — Или это только выражение вашей любезности ко мне, любезности моего шурина?
— Совсем нет, король не говорил об этом, — ответил, немного смешавшись, герцог, — но ведь обычно он играет с вами?
Генрих Наваррский усмехнулся: столько событий, и очень важных, случилось со времени последней их игры, что было бы неудивительно, если бы Карл IX переменил своих партнеров.
— Брат Франсуа, я приду! — улыбаясь, сказал Генрих.
— Приходите, — ответил герцог.
— Вы уже уходите? — спросила Маргарита.
— Да, сестра.
— Вы торопитесь?
— Очень.
— А если я попрошу вас уделить мне несколько минут?
Маргарита так редко обращалась к брату с подобной просьбой, что он глядел на нее, то краснея, то бледнея.
«О чем она будет говорить с ним?» — подумал Генрих, удивленный не менее, чем герцог.
Маргарита, точно догадываясь о мыслях своего супруга, обернулась к нему и сказала с очаровательной улыбкой:
— Месье, если вам угодно, вы можете идти к его величеству. Тайна, которой я собираюсь поделиться с моим братом, вам уже известна, а мою вчерашнюю просьбу к вам, связанную с этой тайной, вы почти отвергли. Я не хотела бы вторично утруждать вас, повторяя свое желание, высказанное вам лично и, видимо, неприемлемое для вашего высочества.
— Что такое? — спросил Франсуа, с удивлением глядя на обоих.
— Так-так! Я понимаю, мадам, что это значит, — сказал Генрих, краснея от досады. — Поверьте, я очень сожалею, что больше не свободен в своих действиях. Но хотя я не могу предоставить графу де Ла Молю надежное убежище у себя лично, я вместе с вами готов препоручить моему брату, герцогу Алансонскому, лицо, которое вас интересует. Быть может, даже, — прибавил он, еще сильнее подчеркивая смысл последних слов, — быть может, брат мой найдет и такой выход, который позволит вам оставить господина Ла Моля… здесь… близ вас… что было бы лучше всего. Не правда ли, мадам?
«Отлично! Отлично! — сказала про себя Маргарита. — Вдвоем они сделают то, чего не сделает никто из них в отдельности».
Она отворила дверь в кабинет и вывела раненого Ла Моля, предварительно сказав Генриху Наваррскому:
— Сир, вы должны объяснить моему брату, по каким соображениям мы принимаем участие в графе Ла Моле.
Генрих, попав в ловушку, рассказал Франсуа, ставшему полугугенотом из политического соперничества, как Генрих стал полукатоликом из политического расчета, о том, как Ла Моль прибыл в Париж, пришел в Лувр, чтобы передать письмо от д’Ориака, и был ранен.
Когда герцог обернулся, перед ним стоял Ла Моль, только что вышедший из кабинета.