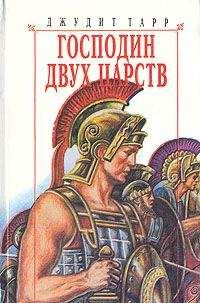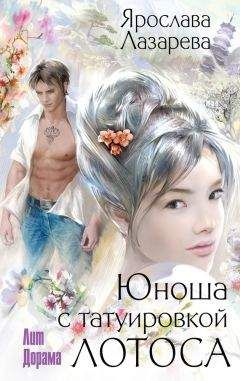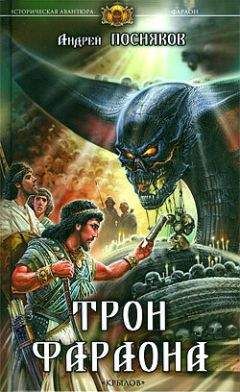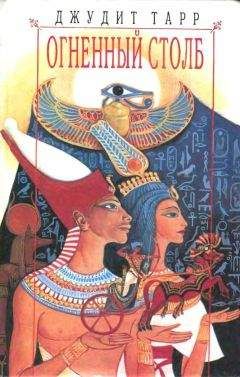— Я… я не отказалась бы что-нибудь съесть.
— Это видно, — сказал врач. Он повысил голос: — Клеомен!
Тут же появился мальчик, тараща сонные глаза, но уже готовый действовать. Мериамон вспомнила его: он приносил ей все, что нужно, когда она лечила Николаоса. Ее восхитила тогда его дисциплинированность.
— Да, господин?
— Отведи этого… — грек слегка запнулся, — мальчика и проследи, чтобы его накормили. Устрой ему постель в палатке учеников. Если кто-нибудь будет к нему приставать, надавай дураку как следует. Жду вас обоих утром.
Это было согласие. Мериамон решила принять его. Николаос спал, а может, притворялся. Сехмет исчезла. Врач наклонился, чтобы осмотреть воина. Вполне удовлетворенная, Мериамон вышла вслед за своим проводником в удивительную тишину ночи.
За те часы, когда она занималась полевой хирургией, лагерь погрузился в сон. Изредка еще доносилось пьяное пение, негромкие разговоры воинов, возвращавшихся из погони или сменившихся с постов во вражеском лагере. Они говорили, что их царь там, спит один в постели труса. Они уже не удивлялись этому, как прежде, говорили, что он всегда бывает странным в ночь после битвы.
Мериамон не пришлось идти далеко. В палатке-кухне мальчик разбудил сонного повара, взял у него хлеба, сыра и бурдюк с вином и сам бодро съел большую часть этого. Хлеб был ячменный, свежеиспеченный и очень вкусный. Сыр был превосходный. Вино, даже разбавленное, одурманило своей сладостью.
Мальчик болтал, не обращая внимания на ее молчание; наверное, он так понимал вежливость. Он избавил ее от необходимости говорить, дал ей, согревшейся и сытой, погрузиться в дремоту. Мериамон очнулась, когда мальчик поднял ее на руки.
— Вы, македонцы, — отчетливо сказала она, все такие большие.
— Вы, египтяне, — ответил Клеомен, — все такие крошечные. — И широко улыбнулся ей. У них у всех такие отличные зубы. Отчего бы это? — Иди спать, маленький египтянин. Я присмотрю за тобой.
Наверное, ей не следовало бы доверять ему. Но ее тень была спокойна, а она так устала. Она положила голову на его широкое костлявое плечо, вздохнула и погрузилась в сон.
Мериамон пришла в палатку врачей еще до того, как взошло солнце. Она съела еще прекрасного ячменного хлеба и выпила пару глотков скверного вина. К тому же она была чистой: настолько чистой, насколько этого можно было добиться, не вызывая неодобрения. Когда с водой трудности, эллины не моются. Они натираются маслом и потом соскребают его. Разглядывая беспокойное серое море, она вздрогнула, но все-таки это была вода, которая ей была так нужна, хотя от нее немели руки и стучали зубы.
В палатке было тепло от множества тел. Запах стал еще хуже, но его еще можно было терпеть. В очаге жгли что-то с резким и странно сладким запахом, наверное, чтобы освежить воздух. Ей вспомнились храмы, бездонный голубой купол небес и всегда ясное солнце.
Мериамон несколько раз сглотнула, до боли в горле. Здесь у нее была цель. Разве не сами боги распорядились так? Если ей приходится страдать в чужой земле, среди варваров, это всего лишь ее долг.
Она прошла сквозь зловоние, узнала, что надо делать, сделала. Сехмет, маленькая бродяжка, снова была здесь, у стенки, возле Николаоса. Он лежал и гладил шелковистые рыжие бока. Сехмет перекатилась на спину и замахала хвостом.
Он принял приглашение. Он почесал мягкое брюшко и вдруг охнул.
Через довольно долгое время Мериамон проходила мимо. Кошка мирно спала, привалившись к его бедру. Ее урчание было похоже на отдаленный гром.
— Это только ласки, — сказала Мериамон, осмотрев следы когтей. — Даже до кости не достала.
— Проклятая кошка, — пробормотал Николаос. Мериамон громко рассмеялась, но ему было вовсе не до смеха. Она откинула одеяло, похожее на солдатский плащ, наверное, так оно и было. Раненый не смутился, как на его месте сделал бы перс, но Николаос был явно не в восторге, что она назначила себя его лечащим врачом. Мериамон отметила про себя, что он хорошо сложен, широкоплеч, с крупными руками и ногами. Казалось, что он еще не вырос окончательно. Сколько ему могло быть лет? Восемнадцать? Двадцать?
Ребенок, и от этого такой обидчивый. Он хорошо переносил боль, это точно: повязку нелегко было снять, но он сжал зубы и двигался только когда она его об этом просила и издал единственный звук — глубоко вздохнул, когда бинт наконец отделился от раны.
— У тебя ко всему прочему еще и ребро сломано. Но, как я вижу, заживает хорошо. Я наложу повязку и сделаю перевязь для руки.
— Тогда я смогу встать?
— Нет.
Его глаза гневно блеснули.
— Нет, — повторила она. — Пока нельзя. Я должна убедиться, что все идет как надо.
— Сколько еще?
Мериамон задумалась.
— Еще день, может быть, два. Там видно будет.
— Целый день?! У меня всего лишь рука сломана!
— Ну, не только. И я сказала, два дня. Может быть. Если ребро только треснуло, а не сломано. И рука не омертвеет. Что ты с ней сделал?
Раненый нахмурился и отвечал сердито:
— Мой конь споткнулся и сбросил меня. Мчалась колесница, и я не успел убраться с дороги. Попал под колесо.
— Какой-то бог, видно, любит тебя, — сказала Мериамон.
Он пожал одним плечом.
— Шел дождь, земля была мягкая. Я сразу вскочил и ринулся в бой.
«Наверное, не сразу, — подумала Мериамон. — Наверное, у него был шок». Теперь же у него сильный жар, даже после всех снадобий, которые она дала. Но он не обращал на это внимания, он все еще упорствовал.
— В этой руке я держу только щит. Я вполне могу стоять в карауле. Щит можно повесить на плечо.
— С этим придется подождать, — сказала Мериамон.
Он свирепо посмотрел на нее.
— Тиранка. Она улыбнулась.
— Уж так я привыкла, честно говоря. Мой отец был царем.
Это остановило его. С этой мыслью об услышанном Николаос и остался, и еще с кошкой, которая, по-видимому, приняла его.
Мериамон кормила жидкой кашей раненого, получившего удар копьем в лицо, и с тоской вспоминала о ячменной соломе и ящиках, полных лекарств, в храме Имхотепа в Мемфисе, когда движение у входа в палатку привлекло ее внимание. Люди часто входили и выходили, приходили воины с небольшими ранами, которые не давали им спать, другие искали среди раненых своих друзей, а те, кому уже успели оказать помощь, беспечно покидали лазарет. Их было много: молодых, чисто выбритых людей в македонских плащах — пурпурных с золотой каймой — и просто в пурпурных туниках. Не все македонцы были очень крупными людьми, но все они держались гордо и смотрели вокруг, как львы. Молодые львы, возвращающиеся с охоты, сытые и царственные.