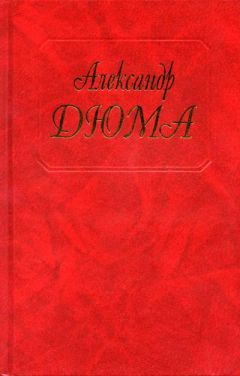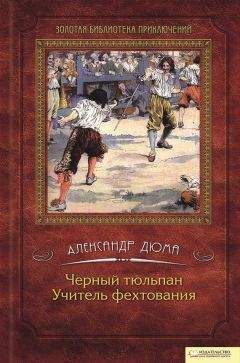Ла Моль был бесконечно счастлив. За исключением некоторой слабости и легкого головокружения от потери крови, он чувствовал себя довольно хорошо. А главное — Маргарита, конечно, примет участие в поездке: он вновь увидит Маргариту! И, думая о том, как хорошо подействовало на него свидание с Жийоной, он ясно представлял себе, насколько благотворнее подействует свидание с ее хозяйкой.
На деньги, полученные на дорогу от родных, Ла Моль купил очень красивый колет из белого атласа и плащ с самым красивым шитьем, какое только мог поставить модный портной. Он же снабдил Ла Моля сапогами из душистой кожи, какие носили в те времена. Все было доставлено утром, с опозданием всего на полчаса против указанного времени, так что Ла Молю не пришлось особенно роптать. Он быстро оделся, оглядел себя в зеркало, нашел, что выглядит вполне прилично, хорошо причесан, надушен и может быть доволен собой; затем несколько раз быстро прошелся по комнате и, хотя временами чувствовал острую боль в ранах, убедил себя, что хорошее настроение заглушит физические недомогания. Особенно шел Ла Молю вишневый плащ, скроенный по его указанию — длиннее, чем тогда носили.
В то время как эта сцена происходила в Лувре, другая сцена такого же характера шла в доме Гизов. Высокого роста рыжеволосый дворянин, стоя перед зеркалом, долго разглядывал красный рубец, весьма некстати пересекавший его лицо; затем он расчесал и надушил усы, все время пытаясь с помощью тройного слоя смеси румян и белил замазать свой рубец; но, несмотря на эти косметические средства, рубец упорно проступал. Убедившись, что притирания не помогают, дворянин придумал другое средство: он сошел во двор, залитый лучами палящего августовского солнца, снял шляпу, поднял лицо кверху, зажмурил глаза и стал так разгуливать, стараясь, чтобы раскаленный воздух, струившийся потоком с неба, ожег ему лицо.
Через десять минут благодаря силе солнечного света лицо дворянина приобрело такую яркую окраску, что красный рубец на нем казался желтым, опять нарушив единство колорита. Однако дворянин был вполне удовлетворен такой расцветкой и постарался подогнать рубец под цвет лица, замазав его губной помадой. После этого он облачился в великолепный костюм, заранее доставленный ему портным.
Разряженный, надушенный и с ног до головы вооруженный, дворянин вторично сошел во двор и стал оглаживать крупного вороного коня, который был бы безупречен в смысле красоты, если бы не точно такой же шрам, как у его хозяина, нанесенный саблей немецкого кавалериста в одном из последних сражений междоусобной войны.
Тем не менее, очень довольный и собой и лошадью, этот дворянин, несомненно узнанный читателем, уже сидел в седле на четверть часа раньше остальных участников поездки, и нетерпеливое ржание его скакуна разносилось по всему двору гизовского особняка; ему вторило восклицание «дьявольщина!», произносимое на все лады — в зависимости от того, насколько всаднику удавалось справляться со своим конем. В конце концов лошадь была укрощена, стала послушной и податливой, признав законную власть всадника; однако победа далась ему довольно шумно, и этот шум, возможно, входивший в расчеты дворянина, привлек к окошку даму; тогда наш лошадиный укротитель приветствовал ее низким поклоном и получил в ответ самую милую улыбку.
Пять минут спустя герцогиня Неверская велела позвать своего управляющего.
— Месье, — обратилась она к нему, — был ли подан графу Аннибалу де Коконнасу приличный завтрак?
— Да, мадам, — ответил управляющий. — Сегодня утром он кушал даже с большим аппетитом, чем обычно.
— Хорошо! — сказала герцогиня. Затем она обернулась к своему первому свитскому дворянину: — Господин д’Аргюзон, мы едем в Лувр. Прошу вас, присмотрите за графом де Коконнасом: он ранен и еще слаб, — ни в косм случае мне не хотелось бы, чтобы с ним приключилось что-нибудь плохое. Это вызовет насмешки гугенотов, которые имеют зуб против него с благословенной ночи святого Варфоломея.
И герцогиня Неверская, сев на лошадь, весело поскакала в Лувр, где был назначен общий сбор.
Было два часа пополудни, когда вереница всадников, сверкая золотом, драгоценностями и блестящими туалетами, появилась на улице Сен-Дени из-за угла кладбища Невинно убиенных и развернулась на ярком солнце между двумя рядами мрачных домов, как огромный кольчатый, переливающийся различными цветами змей.
VI
ТРУП ВРАГА ВСЕГДА ПАХНЕТ ХОРОШО
В наше время никакие сборища людей, как бы нарядны они ни были, не могут дать представления об описываемом зрелище. Мягкие, роскошные и яркие одежды, завещанные пышной модой Франциска I следующему поколению, еще не превратились в узкие темные платья, которые позднее вошли в моду при Генрихе III; наряд самого Карла IX, не такой пышный, но, пожалуй, более изящный, чем носили в предыдущую эпоху, выделялся своим художественным совершенством. Наша действительность не дает ничего, что можно было бы сравнить с такой процессией: все великолепие современных нам парадов сводится к симметрии и мундиру.
Пажи, стремянные, дворяне второго ранга, собаки и запасные лошади, следовавшие с боков и сзади, придавали королевскому поезду вид настоящей армии. В хвосте этой армии шел народ. Вернее, народ был всюду: он шел сзади, впереди, с боков, крича одновременно и «да здравствует!» и «бей!», поскольку в шествии участвовали также гугеноты, перешедшие недавно в католичество, но, несмотря на это, народ был все же зол на них.
Утром, в присутствии Екатерины и герцога Гиза, Карл IX заговорил с Генрихом Наваррским, как о самом обыкновенном деле, о том, чтобы поехать посмотреть на виселицу Монфокона, иными словами — на изуродованный труп адмирала, который там висел. Первой мыслью Генриха Наваррского было уклониться от участия в поездке. Этого и ждала Екатерина. При первых же его словах, выражавших чувство брезгливости, она обменялась с герцогом Гизом взглядом и усмешкой. Генрих Наваррский заметил то и другое, понял, что это значило, и, сразу взяв себя в руки, сказал:
— А в самом деле, почему бы мне и не поехать? Я католик, и у меня есть обязательства по отношению к новому вероисповеданию. — Затем, обращаясь к Карлу IX, прибавил: — Ваше величество, можете положиться на меня, я буду счастлив всегда сопровождать вас, куда бы вы ни ехали!
И быстро окинул взором всех, любопытствуя, чьи брови нахмурились от этих слов.
Во всем блестящем королевском поезде этот сын-сирота, этот король без королевства, этот гугенот-католик, пожалуй, больше всех приковывал к себе любопытные взгляды толпы. Его характерное удлиненное лицо, несколько простонародные манеры, приятельское отношение к низшим, доходившее до степени, несовместимой с королевским саном, но усвоенное с детства среди беарнских горцев и сохраненное до самой его смерти, — все это выделяло Генриха в глазах толпы, откуда раздавались голоса: