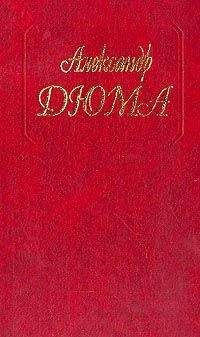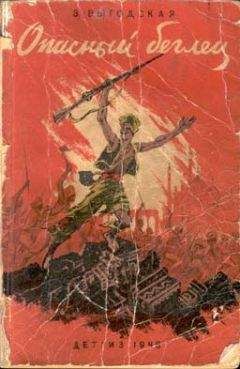И сердце ее билось ровно, спокойно, потому что ничем уже больше не прельщалось, не тревожилось, ничего не ожидало больше от жизни.
Порой, точно в полусне, мелькали еще в ее сознании отрывки мыслей, ничтожных и бессвязных, или картинки ее далекого, далекого прошлого.
Всплыл сад над оврагом, сад за боярским домом, где она впервые услыхала слова любви, слова обольщения.
Ясно вырисовался образ Реполовского, настоящего погубителя ее жизни, толкнувшего ее на преступный путь и с легким сердцем покинувшего ее в самую тяжелую и вместе с тем отрадную минуту жизни.
Потом пред ней промелькнула вылинявшая «Голубая лисица», красовавшаяся на оторвавшейся и болтавшейся на гвозде вывеске немецкой таверны… А вот и озеро в тенистом запущенном парке, страшное озеро тайн с его бархатистой зеленой плесенью. Уныло перекликаются лягушки… Луна мертвенно светит, и ее серебряные лучи странно мешаются с зеленой тенью сада… Но вот огни пожара, искры высоко вздымаются к голубому небу, балки рушатся, крыша проваливается. Два черных, обугленных трупа. Потом широкие аллеи петергофского парка, гигант на повороте одной из аллей… Роскошь обстановки, беспечальное, сытое житье. Лестные речи, подобострастные улыбки, льстивые поклоны. Ступени лестницы, высокой, длинной, трудной. Вершина ее утопает в голубой дали. Первые шаги трудны и мучительны; потом подъем совершается все легче и легче. Ноги ступают как‑то сами собой, точно лестница сама несет ее кверху.
И вдруг все с грохотом рушится. Летят тесаные камни, с гулом падают перила, держаться не за что, и вместо широкой каменной лестницы — узкий каменный каземат, прообраз гробницы. Сыро, холодно, темно, как в беспробудную ночь. Дверь скрипит на заржавленных петлях.
Кошмар проходит, наступает действительность.
Слабый блеск фонаря осветил каземат.
Марья Даниловна встала, шатаясь, еле держась на ногах.
Перед ней стоял офицер с фонарем в руках, а за дверями два солдата с штуцерами.
Офицер поднял фонарь к ее лицу, поднес его еще ближе.
Он пристально взглянул на заточенную.
Она подняла на него глаза, в которых ничего не отразилось, кроме животного, бессмысленного испуга.
— Боже мой! — вскрикнул он. — Да это — та девушка, которую я арестовал когда‑то в Мариенбурге!.. Ты ли это? Ты не узнаешь меня? Я был тогда солдатом…
Она машинально покачала головой и ничего не ответила ему.
— Помнишь, в корчме «Голубая лисица»?.. — снова проговорил он. — Разве можно было забыть тебя, такую красавицу? Но, боже мой, как ты изменилась…
Она и на это ничего ему не ответила. Он тоже замолчал, подавленный, растерянный, смущенный этой встречей.
— Сейчас придет к тебе священник, — сказал он, собравшись с духом.
Вошел священник в старенькой рясе и принялся исповедовать ее.
Она молча кивала головой на все его вопросы и увещания, не проронив ни слова.
— Господь милосерд, — говорил священник, — и у него нет греха, который неможно было бы искупить. Величайшие грешники, дочь моя, и те не должны терять надежды на Царство Божие. Нужно только покаяться. Каешься ли ты?
Она наклонила голову.
— Искренне ли твое раскаяние?
Она еще ниже поникла головой.
— Почему ты не хочешь ничего сказать мне? — с удивлением спросил он ее.
Она тихо, чуть слышно, прошептала:
— Оставь меня.
Он осенил ее крестом и поднес его к ее губам.
Она холодно приложилась к распятию.
— Пора, — сказал, подойдя к ней, офицер и взял ее за руку.
И вдруг с ней сделалось нечто неожиданное.
Она вырвала от него руку и кинулась в противоположный угол каземата, тесно прижавшись к сырой стене.
— Я не хочу, я не хочу, — проговорила она дрожащими губами и широко открыла глаза.
— Я ничего не могу сделать… — возразил офицер, глядя на нее с состраданием. — Нужно идти.
— Я не хочу, не хочу, — бессмысленно повторяла она. — Куда идти? На площадь? На плаху?
— Да…
Она вдруг почувствовала, как нервный трепет потряс все ее настрадавшееся тело, и вся содрогнулась с головы до ног.
Бледные губы ее вздрогнули, и вдруг из глаз ее закапали горячие обильные слезы.
Столбняк ее прошел.
Она возвращалась к тяжелой, мучительной действительности.
— Зачем, зачем я проснулась? — шептала она, так как ей казалось, что она все это время спала и болезненно грезила. — Зачем не убили меня во сне, пока я спала?
— Идем, — сказал ей офицер, пропуская впереди себя священника, — идем, уже пора.
Она рванулась от него, и он сказал ей:
— Я должен буду позвать солдат, ежели ты не пойдешь добровольно.
Он сказал это строгим голосом, но именно строгости‑то и не было в нем.
Нотка печали и сочувствия, звучавшая в его суровых словах, пробралась в сердце Марьи Даниловны и упала на него, как теплая живительная капля.
Она так долго лишена была этого простого и бескорыстного сочувствия, этого теплого, человеческого сострадания.
Никто ведь никогда не любил души ее, да и не старался понять ее.
Все, кто знал ее, любили только ее красоту, только ее выпрошенные или добровольные ласки. Что было им всем за дело до ее души, которая была такой мелкой вещью в сравнении с прелестью ее тела? И, быть может, за это лишение ее обыкновенного человеческого чувства, за эти пренебрежения к ее душе она и мстила так жестоко всем этим людям.
— Тебе жалко меня? — спросила она сквозь слезы у офицера.
Тот опустил голову.
— Вестимо, жалко! — с чувством проговорил он и отвернулся.
— Веди же меня!
Согнув спину, опустив между плеч голову, колеблющимися неверными шагами она поплелась за ним к выходу.
Нужно было подняться на две ступеньки, но ноги ее уже ослабели, и она чуть не упала. Тогда два солдата подхватили ее под руки и почти поволокли ее на крепостной двор.
В холодное и ненастное мартовское утро по широким и пустынным улицам Петербурга медленно двигалась повозка, запряженная двумя вороными лошадьми; возница был в черном армяке и треугольной черной шляпе.
На повозке спиной к лошадям сидела со связанными руками Марья Даниловна.
На черном халате ее на груди привязана была доска, на черном фоне которой белыми буквами была выведена надпись: «Душегубка».
Лицо ее было желто, как воск.
Пряди волос длинными беспорядочными космами выбивались из‑под ее платка. Глаза ее глубоко ввалились и были окружены темной синевой. Губы были бледны и сухи.
Вся ее красота точно слиняла за эту ночь.