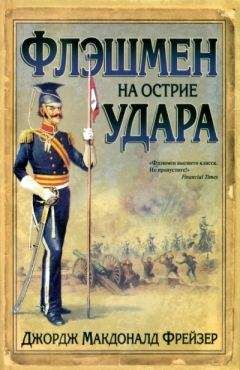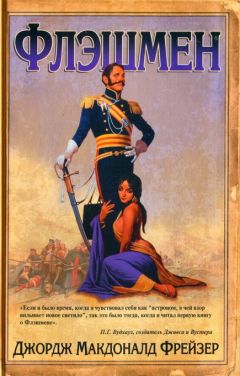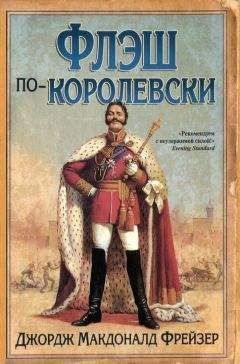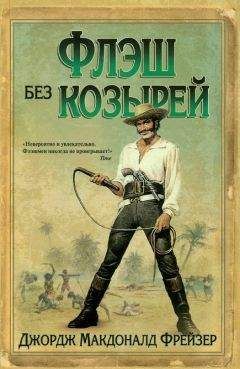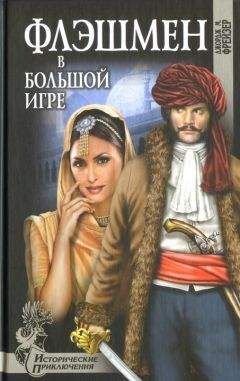— … что за наглость: пытаться поставить себя между мной и моими людьми! — орал Пенчерьевский. — Боже милостивый, дай сил сдержаться! Разве нет душ, о которых тебе следует заботиться, поп? А тебе, Бланк, мало твоих бумажек и доносов, и тебе делать нечего? Так нет же, они занялись подстрекательством, разве не так, мерзавцы? Отправляйтесь со своими подстрекательствами куда-нибудь в другое место, пока я не приказал своим казакам высечь вас! Прочь с глаз моих и моих земель! Оба!
Он был величествен в своем гневе, напоминая одного из тех бородатых древних богов. Я бы от него бежал без оглядки, но те двое стояли на своем несмотря на угрозы.
— Мы вам не крепостные! — кричит тот, которого назвали Бланком. — Вы не можете нам приказывать.
Пенчерьевский зарычал и двинулся вперед, но путь ему преградил священник.
— Господин граф, одну минуту!
Отчаянный малый, однако.
— Выслушайте меня, умоляю. Вы же справедливый человек, а прошу я совсем о малом. Женщина стара, и если она не сможет заплатить подушную подать за своих внуков, вы знаете, что произойдет. Чиновники замуруют ей печь, и старухе останется лишь умереть от голода и холода. И детям тоже. Требуется всего-навсего рубль и семьдесят копеек серебром; я не прошу вас заплатить за нее, просто дать мне и моему другу возможность найти деньги. Мы будем рады заплатить! Вы же нам позволите? Будьте милосердны!
— Слушайте, вы, — говорит Пенчерьевский, немного успокоившись. — Разве меня волнуют эти жалкие деньги? Нет! Будь это даже сто семьдесят тысяч рублей! Не в этом дело: вы мне тут поете про старуху, которая не в состоянии заплатить за своих выродков. А мне ли не знать, что ее сын — этот подлый ублюдок! — зажиточный koulak[73] в Одессе, и сам может заплатить за нее пятьдесят раз по столько! Может ведь?! Но раз он не хочет, то государство должно применить силу закона — и никому не дозволено этому мешать! Даже мне! Скажем, я заплачу или позволю заплатить вам — что тогда будет? А я скажу, что! На следующий год от моего крыльца до самого Ростова выстроятся мужики и начнут вопить: «Мы не в силах заплатить подушную подать, батюшка. [XXX*] Заплати за нас, как заплатил за такого-то». И что тогда делать?
— Но… — начал было поп, но Пенчерьевский оборвал его.
— Вы скажете, что будете платить за них всех? Ну да, господин Бланк заплатит — теми грязными деньгами, которые шлют ему его друзья-коммунисты из Германии! Вот почему ему удается рыскать среди моих мужиков, сея соблазн и призывая к революции! Я его знаю! Лучше убери его прочь с глаз моих, поп, а то я за себя не ручаюсь!
— Но как же старуха? Проявите хоть немного жалости, граф!
— Я все сказал! — рычит Пенчерьевский. — Господи, что я с вами тут разговариваю? Убирайтесь прочь оба!
Он двинулся на них, сжав кулаки, и те двое живо скатились по порожкам. Но тот парень, Бланк [XXXI*], оставил последнее слово за собой:
— Вы — подлый тиран! Вы сами роете себе могилу! Вы и вам подобные намереваетесь жить так вечно: грабить, мучить, угнетать! Но своей жестокостью вы сеете зубы дракона, и они взойдут на горе вам! Вот увидишь, негодяй!
Пенчерьевский взбесился. Он кинул шапку на землю, затопал, а потом закричал, требуя плеть, казаков, саблю. Те двое бедолаг понеслись во всю прыть, Бланк при этом выкрикивал угрозы и оскорбления. Я с интересом наблюдал, как беленится граф.
— За ними! Я угощу этого вонючего мерзавца кнутом, ей-богу! Поймать его и спустить с него шкуру, чтоб места живого на нем не осталось!
Через пару минут группа казаков взлетела в седла и помчалась по направлению к воротам, а Пенчерьевский все бушевал и метался по холлу, то и дело выкрикивая:
— Собака! Ничтожество! Так оскорблять меня в моем собственном доме! Поп — просто дурак, но этот Бланк! Свинья анархистская! Ничего, научится вежливости, когда мои ребята исполосуют ему спину!
Наконец, изрыгнув последнюю порцию ругательств, он удалился. Примерно через час прибыли казаки, и их вожак взбежал по ступенькам, чтобы доложиться. За прошедшее время пыл Пенчерьевского немного подспал; он распорядился приготовить пунш и пригласил меня с Истом в качестве компании. Мы не спеша потягивали обжигающий напиток, когда вошел казак: пожилой, дородный, седобородый детина, с ремнем на крайней дырке. [XXXII*] Он ухмылялся, помахивая нагайкой.
— Ну, — буркнул Пенчерьевский. — Вы схватили этого скота и проучили как надо?
— Да, батюшка, — отвечает с довольным видом казак. — Он мертв. Каких-то тридцать плетей и пуф! Слабоват оказался.
— Мертв, говоришь?! — Пенчерьевский резко поставил чашку на стол и нахмурился. Потом пожал плечами. — Ну, тем лучше! Никто не станет его оплакивать. Одним анархистом больше, одним меньше, властям и дела нет.
— Тот малый, Бланк, сбежал, — продолжает казак. — Мне жаль, батюшка…
— Бланк сбежал?! — крик Пенчерьевского сорвался в хрип, глаза распахнулись. — Ты хочешь сказать… что вы убили попа? Священника?! — Он застыл, не веря собственным ушам, осеняя себя крестом. — Slava Bogu![74] Священника!
— Священника? Да откуда ж мне было знать? — говорит казак. — Что-то не так, батюшка?
— Не так, скотина? Это же был священник… а ты запорол его досмерти! — граф выглядел так, будто его вот-вот хватит удар. Он судорожно сглатывал, теребил бороду, потом ринулся мимо казака вверх по лестнице, и до нас донесся стук закрываемой двери.
— Господи, — выдохнул Ист.
Казак недоуменно поглядел на нас, потом пожал плечами, как это у них водится, и вышел. Мы стояли, таращась друг на друга.
— Что все это значит? — спрашивает Скороход.
— Откуда мне знать, — говорю я. — Обычно они тут кромсают друг друга почем зря. Но думаю, что запороть до смерти священника — это небольшой перебор, даже для России. Нашему старине Пенчерьевскому придется держать ответ — не удивлюсь, если его даже исключат из Московского Карлтонского клуба.[75]
— Боже, Флэшмен! — не успокаивался Ист. — Что за страна!
За обедом мы не увидели ни графа, ни Валю, а тетя Сара не проронила ни слова. Но по ее лицу, так же как по выражению физиономий слуг, можно было понять, что атмосфера в Староторске накаляется. Ист даже перестал бубнить про побег, и мы рано пошли спать, шепотом пожелав друг другу спокойной ночи.
Но заснуть оказалось не так легко. Печь у меня чадила и в комнате было душно; передалось и общее подавленное настроение, так что я впал в тяжелую дрему. Мне снился старый кошмар, как я задыхаюсь в трубе Йотунберга — скорее всего из-за печного угара, [XXXIII*] потом картина сменилась на подземную темницу в Афганистане, где моя старая подружка Нариман готовилась сделать меня пригодным для службы в гареме; затем за стенами темницы послышались выстрелы и крики. Тут я проснулся, весь в холодном поту, и понял, что пальба слышна на самом деле, а откуда-то снизу доносился жуткий треск, рев Пенчерьевского и топот ног. Вмомент я соскочил с кровати, надел штаны и, на ходу натягивая башмаки, выскочил за дверь.