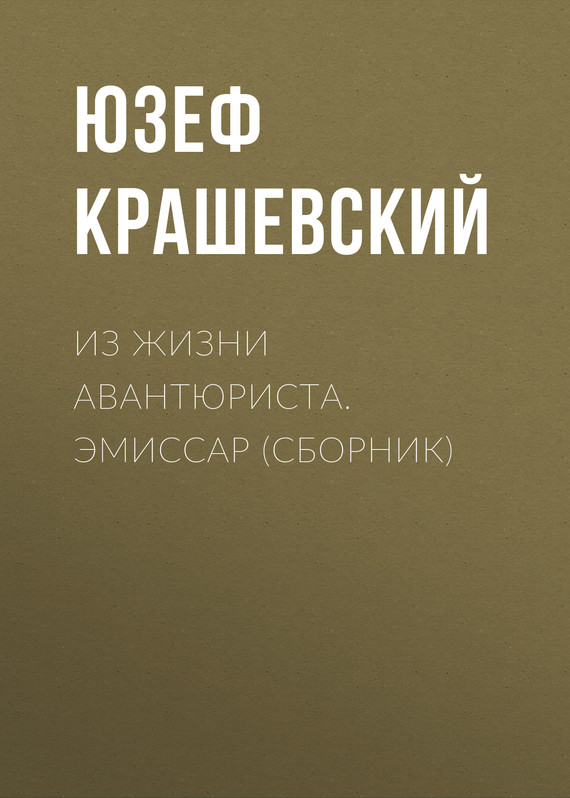прибыл – без прошения руки и заверения.
– Что, не имел ли ещё твой кавалер отваги объявить? – смеялась приятельница.
– Мы приближаемся к этому! – шутливо отвечала Тола.
Однажды на этот вопрос она ответила:
– Просил моей руки…
– Ну, значит, когда свадьба?
– Я просила его о времени подумать.
Докторова на следующий день выехала с великим гневом.
Снова прошло три месяца… не хотела уже даже доведываться.
Вдруг Тола сама прибыла в город. При первом свидании, когда уже докторова ни о чём не спрашивала, пани баронова Тереза выдала то, что они едут в Италию.
– Как это? Одни? Едете в Италию? Надолго? – спросила она, возмущённая.
– Не знаю, – шепнула баронова. – Тола никогда не говорит, сколько пробудет, но по выбору и кассе я считаю, что пробудем, наверно, несколько месяцев.
Неизмерно огорчённая этим приятельница спрашивала даже баронову на стороне.
– Давно был у вас Теодор?
– Вчера на самом нежном на свете прощании.
– Что же они? Обручились, или что?
– Ничего не знаю, кроме того, – говорила потихоньку Тереза, – что это есть, по-видимому, чудачество Толи. – Несколько раз он просил, умолял, – откладывала, оттягивала, отпрашивалась под разными предлогами, а, однако, отпустить его не думает и держит прикованным к цепи.
– А, стало быть, это её вина?
– О! Конечно!
– И он это так терпеливо сносит?
– Вы знаете, – добавила Тереза, – что с моей дорогой Толой трудно спорить, разве её переубедишь, когда что себе раз скажет. Не знаю, что поведала себе, но велела ждать, а пан Теодор должен.
– И не торопит?
– Напротив, но это ничуть не помогает.
Очень огорченная докторова умолкла сама, уж не зная, что думать.
Третьего дня всё-таки, со слезами прощаясь с ней, прося о благословении на дорогу, Тола двинулась в намеченное путешествие.
Через несколько недель потом старый достойный Куделка перешёл в вечность, как сам привык шутливо говорить, на библиотекаря патриарху Аврааму. За два дня перед смертью он чувствовал себя уже очень нехорошо, постоянно дремал. Редчайшие книжки падали ему на колени, глаза закрывались на самые красивые издания, – он чувствовал какую-то непередаваемую необходимость в отдыхе. Ходил, однако, упрямый, не желая ложиться в кровать. В последний день даже нарядился с помощью слуги, сел в кресло – потом заснул и уже не пробудился… Вызванный на похороны, прибыл Мурминский, заняться последней услугой.
С докторовой встретились на кладбище, когда уже отходили от недавно засыпанной могилы.
За воротах она обратилась к нему:
– Что же, бедолага, потерял подругу и овдовел без любимой?
Теодор только вздохнул.
– Как же ты мог так её одну оставить? Этому послушанию, признаюсь, надивиться не могу. Вместе также и вашей взаимной любви верю всё меньше. Вы недотёпа, а она чудачка. Девушке, сироте, может, это ещё до некоторой степени быть прощено, но вам…
Она пожала только плечами.
– Я выставлен на проверку, дорогая пани, – отпарировал Теодор. – Толи столько о моём безумии, авантюрах, неспокойном характере и странностях рассказывали, что, хоть милостива ко мне, думаю, что немного, может, любит меня, а гораздо больше боится. Граф Мауриций с единомышленниками обрисовал меня перед ней таким образом, что я сам даже не могу стереть впечатления этой картины, начертанной мастерской рукой.
В очернении человека, как в рисовании карикатур, есть великое искусство и умение, клевета будет так похожа на лицо, что одно от другого трудно потом отделить. С таким искусством обрисовали меня перед Толой, исковеркали настоящие факты моей жизни, искривили её только, и сегодня выпрямить трудно.
Эти слова Теодор сказал грустно, но с резигнацией.
– Но пока что у лиха она думает тебя так держать на этом несчастном испытании, – прервала возмущённая докторова, – удивляюсь беспримерному твоему терпению, а скорее не знаю, как уже это называть.
– Называй это, пани, любовью, ничем больше, – сказал Теодор, – я с уверенностью выдержу испытание.
– Ну, а Толу я не понимаю и гневаюсь на неё, – пробормотала докторова. – Знаешь, пан, что она в Рим и Неаполь выехала, вроде на несколько месяцев?
– Да, пани, у меня есть даже письма.
– А тебе ехать запретили?
– Не смею, заподозрили бы меня в излишнем нетерпении.
– Делай что хочешь – от нетерпения, – закончила докторова, – слышать о вас не хочу!
Через неделю потом на пороге пани докторовой появился Теодор, но с очень весёлым лицом.
– А! Ты снова в городе?
– По дороге, милостивая пани, заехал…
– Куда же?
– Разрешили мне наконец гнать! – воскликнул он, обрадованный. – Помчусь, поэтому, с риском сломать себе шею и думаю, что третьего дня там буду.
Докторова не могла уже ни на час его задержать – так спешил, чтобы первый уходящий поезд не пропустить.
– Самые прекрасные поклоны Толи, – добавила она, сжимая его руку, – и скажи, что даже президентше дала опередить себя, хоть у той был траур и горе для переживания, а в эти дни выходит замуж за полковника. Значит, время и ей одуматься.
У президентши были за печью претенденты для выбора, среди них были юноши, молодые и смазливые, как с иголочки; умная женщина взяла старого поклонника, которым, по счастью, домашние были довольны – и в общую копилку с прекрасным именем принёс по крайней мере пятнадцать тысяч талеров дохода. Есть за что седеющие волосы немного почернить.
Теодор выехал.
Докторова забыла немного об обоих, когда по почте получила письмо, очень красиво написанное, официально объявляющее, что состоялось венчание в Неаполе в соборе Св. Екатерины. Тола доложила несколько объявляющих слов, что в Кастелламаре пробудет ещё несколько месяцев, прежде чем вернётся на родину.
Итак, под тенью тех старых каштанов, на пепелище Стабии, в торжественной тишине, прерываемой только шумом волны, разбивающейся где-то о прибрежные скалы, молодые супруги провели первые дни своего счастья. Прекраснее уголка, чем это гнёздышко, трудно выбрать.
Наконец одного дня увидела их обоих достойная приятельница и любопытными глазами измерила Толу, которая похорошела и помолодела, сбросив с себя накидку той серьёзной грусти, которая к её возрасту совсем не подходила. Теодор очень изменился и, что более необычно, почти восстановил легкомыслие юноши. Тем, что знали его раньше, он напомнил первые года выхода в свет, когда был изнеженным ребёнком президентши. Когда на минуту остались одни, докторова, ещё не в состоянии простить Толи её проволочки и колебания, напала на неё с упрёками – та замкнула ей уста объятием.
– Дорогая моя, – сказала она, – я должна была Тедора не испытать, потому что в него верила, но дать ему время остыть, помириться с миром, сбросить с сердца горечь, нагромождённую долгими годами. Мы были постоянно вместе… могу сказать, что я принялась снова воспитывать человека… Я должна была помнить о том, что уже однажды отчаяние его привело на грань самоубийства… и только счастливый случай мне его спас. Верь мне, дорогая моя, что трудней всего лечить душу, отравленную ненавистью к людям и свету. Для торжественного часа нашей свадьбы я должна была ждать, пока он помирится со светом, пока людей простит, пока выйдет духом на те вершины,