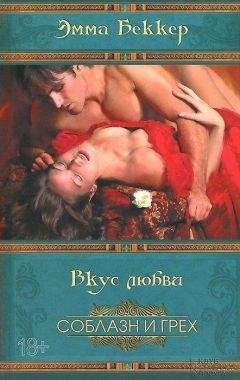Я желаю, чтобы твоего мужчину никогда не постигла такая участь.
Во всяком случае, я была возмущена тем, что этот замечательный человек, которого я так любила за его нежность, позволял себя так использовать. Я должна была что-то сделать.
С этой целью я откровенно поговорила с Эдмондом, и опять-таки я не хотела причинить тебе вред, моя дорогая Флоренс, поэтому отправила тебя в Европу. Ты была мне за это признательна, потому что смогла поехать с Мари, Жозефиной и их гувернанткой. Они должны были пройти там последний этап обучения и, прежде всего, найти себе мужей, о которых в колонии и мечтать не приходилось.
Я отдала практически все мои деньги за то, чтобы они взяли тебя с собой и привезли к твоим бабушке и дедушке в Страсбург. И, как мне сообщили, ты благополучно туда добралась. Несмотря на это, меня мучила совесть, потому что я знала: эти глупые создания — не лучшая компания для тебя, но в то время моя страсть взяла верх над материнским чувством. Я тогда даже подумать не могла, какую беду на всех нас навлекла.
Эта известная еще в древние времена натуральная смола представляет собой высохший на воздухе сок бальзамодендрона мирры, кустарника, растущего на побережье Красного моря в Африке вплоть до побережья Сомали.
Паула подошла ближе к этому тончайшему плетеному золотому чуду и не могла отвести взгляд. Это казалось таким красивым, что можно было даже забыть, на чьей совести смерть Ласло. Она сожалела, что родственники Ласло и ее попутчики этого не увидят, потому что никто ведь в это не поверит.
Она прижала к себе Йо, встала на колени, произнесла стихотворение, которое казалось ей более уместным, чем молитва, и пообещала Ласло, что она сделает все, чтобы его не забыли. Затем она сорвала несколько коричнево-красных орхидей и положила их у ног, окутанных золотой вуалью.
— Теперь мы можем идти, — сказала она Йо, сделала глубокий вдох и пошла, стараясь выйти на жасминовый след.
Она прошла мимо высохшей болотистой лужи, глядя на которую можно было без труда определить, где лежал он, а где она. Она остановилась и растерялась. Еще вчера они спорили и смеялись, а теперь не осталось ничего, кроме отпечатка в луже. «Мне следовало его поцеловать, — пронеслось у нее в голове, — почему я этого не сделала?» Ни смерть Ласло, ни вид его мертвого тела не вызвали у нее слез, но, глядя на эту лужу, она потеряла самообладание. Однако она знала, что если начнет горевать, то умрет здесь вместе с Йо. Ей нужно идти дальше, шаг за шагом.
Ей было тяжело нести вещи и фрукты, ремни врезались в кожу. Ее обувь все еще была мокрой, ноги отекли, из-за чего на пятках и пальцах при каждом последующем движении натирались мозоли. К сожалению, обувь Ласло ей не подходила по размеру, иначе она могла бы надеть ее.
Чем выше поднималось солнце и чем сильнее становилась влажная жара, тем больше ее мучила жажда, и только после того, как она напрасно открыла две фляги, она вспомнила, что накануне вечером не позаботилась о том, чтобы достать чистую воду.
Лужи с предыдущего дня уже давно высохли, и она радовалась, что нет дождя, потому что ей было очень сложно следовать за ароматом жасмина. Она надеялась на то, что Нориа продолжала так же неэкономно использовать масло.
Ее язык прилипал к небу, и в горле пересохло. Она с тревогой посмотрела на Йо и помолилась о том, чтобы он, насытившись фруктовой кашей, еще долго спал.
Между тем, ей обязательно нужно найти источник, ручей с относительно чистой водой или равеналу и в то же время следовать за жасминовым запахом, не отклоняясь от пути, — для этого у нее было слишком мало сил.
Как бы ей хотелось, чтобы Ласло был рядом и спрашивал ее о чем-нибудь! Они разговаривали бы, и это отвлекало бы ее от боли в ногах. Паула с трудом продвигалась дальше, уговаривая себя на каждый шаг. Она все время останавливалась и принюхивалась. Ей было очень плохо, потому что ей постоянно казалось, что за ней наблюдают, и, когда серо-белая ветка, на которую она собиралась присесть, начала двигаться, она испугалась так, что чуть было не уронила Йо. Это был всего лишь хамелеон величиной с белку, который пристроился на ветке. Он убежал от нее.
Ее резкое движение разбудило Йо, и проснулся он не в наилучшем настроении. Поэтому Паула решила передохнуть, достать джекфрут, сделать их него кашицу и покормить Йо. Затем она собрала вещи и пошла дальше. Она высматривала кокосовые пальмы, кусты бананов и ананасов, но тщетно. Тропический лес она представляла как цветочный рай, где ей в рот будут залетать фрукты, словно жареные голуби, и где питьевая вода будет струиться серебристыми ручьями по прекрасной местности. На лице ее появилась печальная улыбка: все оказалось не так, как она воображала. Ни любовь, ни брак, ни даже любимая еда не могут всегда иметь один и тот же вкус. «Эти мысли никуда тебя не приведут, — предостерегала она себя. — Ты жива, ты спасла жизнь этому прекрасному мальчику, и ты идешь к цели, вскоре ты сможешь завершить то, что начала твоя бабушка. И все это ты сделала сама». Внутренний голос тихо захихикал: «Браво!» Но эту насмешку Паула не могла выдержать. Потому что все, что угодно, лучше, чем жить в деревне под Мюнхеном в убогой подвальной квартире. Сидеть в прогнившем кресле, вышивать крестиком полотенца с розочками или игольники и умирать от скуки, потому что все ее подруги перестали с ней общаться. Нет, не так: потому что они должны были перестать с ней общаться, ведь ее муж распустил грязные слухи о ней, чтобы чувствовать себя героем после развода. Якобы она перед замужеством подхватила от одного из своих многочисленных любовников «французскую болезнь», и, по его словам, только это стало причиной того, что у нее родился ребенок-урод, который умер спустя несколько дней.
Паулу в семнадцать лет выдали замуж за старика, и у нее не было ни любовников, ни каких-либо представлений о том, что должно происходить в первую брачную ночь, потому что мать ничего не рассказала ей об этом. Конечно же, она вместе с Йоханнесом Карлом видела во дворе Йозефы, как совокупляются свиньи, коровы и собаки, но она и не думала переносить это на людей.
Несмотря на жару, при мысли о бывшем муже ее охватил озноб и она начала дрожать. Даже после того, как два врача подтвердили, что у нее никогда не было «французской болезни» и что она абсолютно здорова, Эдуард фон Вагенбах продолжал повсюду рассказывать, какой невероятно ветреной она была, каким волком в овечьей шкуре оказалась, с каким трудом он смог отделаться от нее. После развода прекратилась и финансовая поддержка, которую фон Вагенбах оказывал ее матери и Густаву, что привело к окончательному разрыву с семьей.