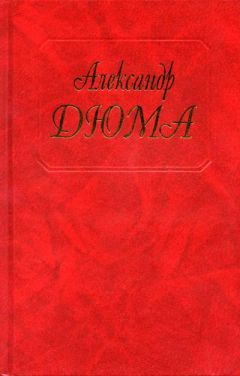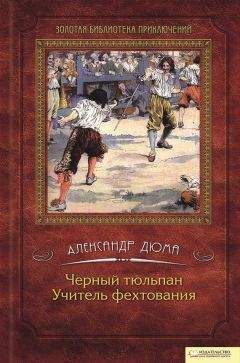Появление Ла Моля было ударом в сердце Коконнаса, и, хотя Ла Моль вошел не один, Коконнас даже не взглянул на его спутника.
Но спутник заслуживал того, чтоб на него взглянули.
Это был человек лет сорока, коротенький, коренастый, сильный, с черными волосами, спадавшими до самых бровей, и с черной бородой, скрывавшей, вопреки моде того времени, всю нижнюю часть лица; но вновь прибывший, видимо, не очень придерживался моды. На нем были кожаная безрукавка, вся в бурых пятнах, штаны цвета бычьей крови, колпак того же цвета, под безрукавкой — красная фуфайка, грубые кожаные башмаки, доходившие ему до икр, и широкий пояс с привешенным к нему ножом в ножнах.
Сбросив на стул коричневый плащ, в который он был завернут, странный незнакомец, присутствие которого в Лувре могло бы вызвать недоумение, без всяких церемоний подошел к кровати Коконнаса; тот, словно завороженный, не спускал глаз со стоявшего в стороне Ла Моля. Незнакомец осмотрел больного и покачал головой.
— Вы слишком долго выжидали, дворянин! — сказал он.
— Я раньше не мог выходить из дому, — ответил Ла Моль.
— Э! Так надо было послать за мной.
— Кого?
— Да, это верно! Я и забыл, где мы находимся. Я говорил с дамами, да они не стали меня слушать. Если бы выполнили мои предписания, вместо того чтоб обращаться к этому набитому дураку Амбруазу Парэ, вы бы давно уже на пару с приятелем ухаживали за дамочками или еще раз обменялись ударами шпагой, если бы пришла охота. Словом, посмотрим! Ваш приятель способен что-нибудь понимать?
— Не очень.
— Высуньте язык, дворянин.
Коконнас показал язык Ла Молю, скорчив такую страшную гримасу, что незнакомец опять покачал головой.
— Эх-эх-эх! Сводит мускулы. Нельзя терять времени. Сегодня вечером я вам пришлю питье; дадите ему выпить в три приема, час в час: в полночь, в час ночи и в два часа ночи.
— Хорошо.
— А кто будет давать ему питье?
— Я.
— Вы лично?
— Да.
— Даете слово?
— Честное слово дворянина!
— А если какой-нибудь врач вздумает стащить малую толику, чтобы исследовать и узнать, из чего оно состоит?..
— Я все вылью, до последней капли.
— Тоже честное дворянское слово?
— Клянусь вам!
— А через кого прислать вам питье?
— Через кого хотите.
— Но мой посланный…
— Что?
— Как же он к вам пройдет?
— Это предусмотрено. Он скажет, что пришел от парфюмера Рене.
— Это тот флорентиец, что живет у моста Сен-Мишель?
— Он самый. Ему дано право входа в Лувр в любое время дня и ночи.
Незнакомец усмехнулся:
— Да, это самое малое, что должна ему королева Екатерина. Решено, посланный придет от имени парфюмера Рене. Уж один-то раз мне можно воспользоваться его именем: сам он частенько занимается моим ремеслом, не имея на то законных прав.
— Значит, я могу рассчитывать на вас? — спросил Ла Моль.
— Можете.
— Что же касается оплаты…
— О! Об этом мы сговоримся с самим дворянином, когда он встанет на ноги.
— И будьте покойны: думаю, он воздаст вам сполна.
— Я тоже так думаю. Но, — прибавил он, криво усмехнувшись, — люди, имеющие дело со мной, обычно не бывают мне признательны, так что не удивлюсь, ежели и этот дворянин, встав на ноги, забудет или, вернее, не потрудится вспомнить обо мне.
— Ладно, ладно! — ответил Ла Моль, тоже улыбаясь. — В таком случае я ему освежу память.
— Ну что ж, идет! Через два часа питье будет у вас.
— До свидания.
— Как вы сказали?
— До свидания.
Незнакомец усмехнулся:
— А вот я говорю всегда — прощайте. Прощайте, господин Ла Моль! Через два часа питье будет у вас. Слышите, надо дать его в три приема: сначала в полночь, а затем через каждый час.
С этими словами он вышел, и Ла Моль остался один на один с пьемонтцем.
Коконнас слышал весь разговор, но ничего не понял: до него доносились пустые звуки слов, невнятное журчанье фраз. Из всего разговора у него в голове засело только слово: «полночь».
Он продолжал горящим взглядом следить за Ла Молем, который то глубоко задумывался, то принимался ходить по комнате.
Незнакомый доктор сдержал слово и в назначенное время прислал питье. Ла Моль предусмотрительно поставил его на маленькую серебряную грелку и лег в постель.
Это дало Коконнасу небольшую передышку. Он попробовал закрыть глаза, но горячечная дремота оказалась лишь продолжением его бреда наяву. Тот же призрак, что преследовал его днем, гонялся за ним и ночью: сквозь воспаленные веки он продолжал видеть Ла Моля, по-прежнему грозящего бедой, и какой-то голос шептал на ухо: «Полночь! Полночь! Полночь!»
Вдруг среди ночи послышался гулкий бой часов: они пробили двенадцать раз. Коконнас открыл воспаленные глаза; его горячее дыхание обжигало сухие губы; неукротимая жажда томила пышущее жаром горло; маленький ночничок светился, как обычно, и в тусклом его свете множество призраков танцевало перед блуждающим взором Коконнаса.
И вот он видит нечто страшное: Ла Моль встает с постели, делает два круга по комнате, как кружит ястреб над завороженной пичугой, и направляется к нему, грозя кулаком. Коконнас засунул руку под подушку, схватил кинжал и приготовился выпустить кишки своему врагу. Ла Моль подходил все ближе.
Пьемонтец бормотал:
— A-а! Это ты, опять ты, все ты! Иди, иди! A-а! Ты мне грозишь, показываешь кулак, улыбаешься! Иди, иди! Ага! Ты крадешься потихоньку, шаг за шагом! Иди, иди, я тебя зарежу!
И в ту минуту, когда Ла Моль склонился над его постелью, Коконнас в самом деле от глухой угрозы перешел к действию: из-под одеяла молнией сверкнул клинок. Но то усилие, которое он сделал, чтобы приподняться, изнурило его совсем: рука, занесенная над Ла Молем, остановилась на полпути, кинжал выскользнул из ослабевших пальцев, а сам умирающий рухнул на подушку.
— Ну, ну, — шептал Ла Моль, осторожно приподнимая ему голову и поднося чашку к его губам, — выпейте это, мой бедный товарищ, а то вы весь горите.
Ла Моль действительно подносил чашку, которую Коконнас принял за грозный кулак, так сильно встревоживший больной мозг раненого.
Но как только благодатная жидкость смочила его губы и освежила грудь, к раненому вернулся здравый ум, или, вернее, здоровый инстинкт. Коконнас почувствовал во всем теле неизъяснимое блаженство, какого он не испытывал еще ни разу; открыв глаза, он бросил осмысленный взгляд на Ла Моля, с улыбкой державшего его на своих руках; из глаз пьемонтца, только сейчас еще горевших мрачной яростью, скатилась по пылающей щеке едва заметная слеза.